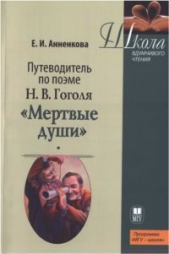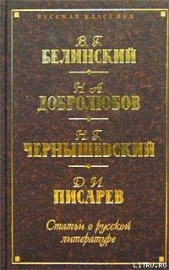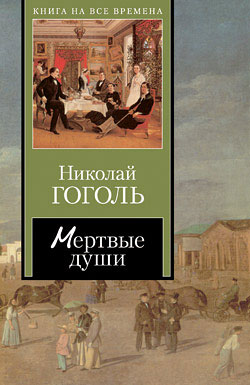Поэма Гоголя "Мертвые души"

Поэма Гоголя "Мертвые души" читать книгу онлайн
Книга вводит в устоявшиеся представления о «Мертвых душах» ряд новых аспектов. Рассматривается попытка Гоголя дать в поэме синтез духовных богатств нации с дописьменных времен до Пушкина и Грибоедова. Показано, как средствами ассоциативной поэтики писатель углубляет содержание произведения, создавая рядом с ее «открытым» текстом разнообразные образы-символы. Устанавливается проекция гоголевского текста на «Божественную комедию» Данте и другие произведения мировой литературы.
Для всех интересующихся творчеством Гоголя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Собственно, вертикаль эту эстетика барокко получила как наследство от религиозного сознания средних веков; продолжала она существовать и позже. Философ и теоретик романтической эстетики Шеллинг, например, рекомендовал писателям нового времени строить свои произведения по образцу «Божественной комедии» Данте, [75] структура которой представляет ту же вертикаль: путь ее героя идет через ад, чистилище и рай. И в своем замысле «Мертвых душ» Гоголь собирался повторить эту структуру. Подробно об этом — ниже, пока лишь еще раз подчеркнем, что древнейшие художественные традиции, связь с которыми мы обнаруживаем в поэтике «Мертвых душ», не представляли для гоголевской эпохи такого уж страшного анахронизма, как можно подумать, — все они по той или иной линии были родственны главенствовавшему в эту эпоху романтическому миросозерцанию.
Результаты близкие к тем, которые дал анализ «плюшкинской» главы, получим и после такого же пристального рассмотрения Повести о капитане Копейкине. Разница будет лишь в том, что образ человека, увиденный нами в символике шестой главы, был предельно обобщенным и безличным, тогда как в Повести о капитане Копейкине угроза страшного возмездия уже обращена Гоголем к персонам, стоящим на самом верху социальной лестницы, т. е. наиболее ответственным за положение дел в стране. Попробуем взглянуть на Повесть не с точки зрения непосредственно в ней показанного, а остановимся на тех ассоциациях и «умственных» образах, которые возникают при ее чтении.
Сказовые приемы в Повести отнюдь не были для Гоголя чисто стилистическим экспериментом, как это понял Андрей Белый. [76] Только в цветистой речи почтмейстера, уснащенной массой необычных оборотов и словечек, можно было «спрятать» все те словесные «сигналы», которые вызывают у читателя необходимые представления. Источник же этих «подсказываемых» образов — «вечный» и универсальный для христианского мира. Это Библия.
Уже первые характеристики, данные почтмейстером Петербургу («… в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! <…> сказочная Шехерезада» — VI, 200), в своем сочетании могут породить ассоциации с библейским Вавилоном, хотя и достаточно туманные. В Писании Вавилон фигурирует как «краса царств» (Исайя, гл. 13, ст. 19), «величественный» (Даниил, гл. 4, ст. 30), «великий» (Откровение св. Иоанна, гл. 16, ст. 19) и т. п., но за грехи своих владык и их подданных этот город терпит ужасную кару, со всей силой библейского красноречия предсказанную прореками.
Ассоциации с вавилонским смешением языков (Бытие, гл. 11, ст. 9) может вызвать и нагромождение национальных обозначений в Повести (с высоким коэффициентом восточных): «… ковры — Персия целиком»; «… чтобы не толкнуть локтем <…> какую-нибудь Америку или Индию…»; «… на тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка…»; «… повар там <…> француз с открытой физиогномией, белье на нем голландское…» (VI, 200–203); сюда же можно отнести названия трактиров — «Ревельский», «Лондон» и т. п. Правильность предложенной догадки подтвердит отрывок из письма Гоголя приблизительно того же времени, что и Повесть: «Хотя при <…> мысли о Петербурге, мороз проходит по моей коже <…> но хотелось бы мне сильно прокатиться по железной дороге и услышать это смешение слов и речей нашего вавилонского народонаселения…» (XI, 181).
Вполне четко образ Вавилона проступает во фразе: «… мосты там висят эдаким чортом, можете представить себе, без всякого, то-есть, прикосновения, — словом, Семирамида, судырь, да и полно!» (VI, 200; висячие сады Семирамиды находились в Вавилоне). Как далека эта фраза от той, из которой она, по-видимому, возникла: «Мосты повисли над водами…». Если последняя говорит только и именно о том, что́ в ней сказано, для Гоголя весь смысл высказывания сосредоточен в слове «Семирамида», ибо создаваемая им параллель от мостов распространяется и на весь Петербург, неся в себе страшное пророчество «современному Вавилону».
Когда же рассказ почтмейстера доходит до слов: «… драгоценные мраморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее…» (VI, 201), — пункт, к которому ассоциативным путем ведет нас Гоголь, уже не вызывает никаких сомнений. Это пятая глава библейской Книги пророка Даниила, где рассказывается о том, как вавилонский царь Валтасар «и вельможи его, жены его и наложницы его <…> пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных» (ст. 3–4), «которые ни видят, ни слышат, ни разумеют» (ст. 23), вместо того чтобы служить богу живому и исполнять его заповеди.
Драгоценные мраморы, необыкновенная ручка, коснуться которой можно лишь по совершении особого ритуала, раззолоченная ваза в приемной министра — это те же идолы, и поклонение им заставляет петербургских вельмож забывать о такой главнейшей заповеди, как любовь к ближнему.
Напоминание властителям России об участи Вавилона безусловно стало одним из программных пунктов гоголевского творчества 1840-х годов. Это подтверждается и следующим фрагментом из обращенной к Н. М. Языкову статьи, основой которой послужили реальные письма 1844 г., — «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» (обратим внимание на подчеркнутую актуальность «предметов»).
«Разогни книгу Ветхого завета, — призывает поэта Гоголь, — ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся страшный суд божий, что встрепенется настоящее <…> Нужно, чтоб твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл» (VIII, 278–279).
Тема «божьего суда» звучит у самого Гоголя в той же десятой главе, где помещена Повесть о капитане Копейкине, в обобщающем лирическом отступлении о неверных путях, которые избирало человечество на протяжении своей истории. (Кстати, образ ищущего дорогу путника типичен для искусства барокко). И снова, как и в шестой главе поэмы, человечество рисуется Гоголем на краю пропасти; с другой же стороны, предстает еще одна реминисценция из эпизода Валтасарова пира — исчерченная «небесным огнем» летопись человечества, в которой «кричит каждая буква», и «пронзительный перст», устремленный «на него же, на него, на текущее поколение» (VI, 211).
Параллельно с «Мертвыми душами» отголоски сказания о Валтасаровом пире появляются и в «Шинели», выпущенной в свет в том же 1842 г., что и поэма: «… исчезло и скрылось существо <…> на которое так же <…> нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира…» (III, 169). На фоне этого «напоминания царям» в повести дважды возникает тема отмщения, — вернее, она реализуется в двух различных планах. Один из них — мистический, где действующим лицом является вышедший из могилы Акакий Акакиевич; зато другой, где эта тема только намечена, — вполне материальный. Как мы уже привыкли встречать это у Гоголя, серьезное содержание замаскировано здесь той намеренной нечеткостью изложения, которая допускает произвольные толкования. Но опять-таки мы уже знаем, что для Гоголя менее всего важно буквальное осмысление подобных образов, — важно для него вызвать у читателя определенные ассоциативные представления, а это он умеет рассчитать безошибочно. В нашем случае их источником служит упоминание об усатом «привидении» с огромными кулаками, которое в не пропущенном цензурой варианте окончания повести направилось после встречи с будочником к Семеновским казармам. В своей острой и животрепещущей злободневности (напоминание о бунте Семеновского полка) этот вариант был еще выразительнее, чем шайка разбойников из Повести о капитане Копейкине.
Таким образом, самые острые социальные проблемы, поставленные в «Мертвых душах», оказываются связанными в поэме с традицией религиозно-учительного «слова», а пафос гоголевских обличений — с той миссией пророка, которую он явно стремился на себя взять.