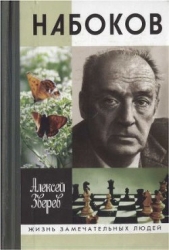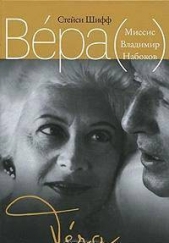Владимир Набоков: pro et contra. Том 1

Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Раздраженно-брезгливый тон Цинцинната в его разговорах с м-сье Пьером вызывает в памяти классический образец диалога с нечистой силой. Доказывая свое авторство, Иван признает банальность вымысла: «Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду… ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак… Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых… Ты именно говоришь то, что я уже мыслю… и ничего не в силах сказать мне нового!» [629] М-сье Пьер — также порождение Цинцинната: вылезший из головы пошленький черт; издержки каламбурного ума набоковского героя. Так что досада, негодование и отчаяние его (как и отчаяние Германа) обращены лишь на себя самого — творца картонных садов и ватных демонов.
Необходимое звено в традиции изображения нечистой силы как воплощенного бреда — «Петербург». По известному высказыванию Белого, весь роман «изображает в символах места и времени подсознательную жизнь искаженных мысленных форм», место действия его — «дума некоего не данного в романе лица, переутомленного мозговой работой» [630]. Однако эта мозговая работа повторяется действующими лицами «Петербурга», которые «выдувают» друг друга из головы. В этом смысле умозрительный состав черта мало чем отличается от состава Дудкина. «Енфраншиш» создан Дудкиным, который, в свою очередь, вырос из сенаторского страха. Являясь продолжением головы сенатора, реализацией представлений последнего об анархической опасности, исходящей от островного люда, Дудкин на добрую половину «состоит» из того материала, который осознается и Аблеуховым, и им самим как культурные стереотипы. Что касается черта, то он — представитель вывернутой реальности Дудкина, — только повторяет его идеи и сны: «Наши пространства не ваши, все течет там в обратном порядке… И просто Иванов там — японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в обратном порядке — японская: Вонави» [631]. Вспомним: Цинциннат и Пьер — «П» — перевертыш «Ц» [632].
Скептическое начало, пронизывающее «темный» роман Андрея Белого, метафизическая ирония, именно у Белого в сравнении с другими символистами зазвучавшая столь неоднозначно [633], философское зубоскальство, лирическое самоосмеяние, перевертыши и передразнивания — вот что роднит «Петербург» с набоковской прозой и позволяет нам допустить определенные черты общности картины мира, создаваемой столь несходными между собой художниками.
Все замыкается в круге мозговой игры: философия, религия, мифология, искусство. Кантианство и теософия, гностицизм и конфуцианство, Ницше и символизм внезапно становятся отработанными схемами культуры, закрывающей перед человеком двери в «неизмеримое». «Фамильярный» тон реминисценций, нарочитая небрежность «неточных» цитат, как будто призванных подчеркнуть общеизвестность и общедоступность «чужих» текстов в «Петербурге», переходит в поэтику Набокова, создающего мир, в котором не только «ад», но и «рай» предстает «чужой, всеобщей сказкой», штампом, воспроизводимым рефлектирующим сознанием, — сакральная область оказывается бутафорией, человеческой подстановкой божественного: «Тамарины сады» обманывают Цинцинната, и в конце концов он понимает, что их «муравчатое там» все же остается здесь, в профанной реальности. Отражая эстетический индивидуализм автора, герои Набокова не желают вписываться в существующие религиозные или философские модели мира. Поэтому религиозный символ, «большая идея», литературный мотив часто воспринимаются ими как роковая данность прошлого, общее место, навязанный стереотип. Так, почти с ненавистью достраивает Цинциннат подсказываемую мифологему Отца: «Во, во, подыгрывайте мне, я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом… или загулявшим ремесленником, плотником» [634].
Вслед за Белым Набоков использует принцип многократного наслоения реминисценций, в результате чего — каждый портрет многократно переписан, каждый сюжет построен на множестве координат. Но, воплощая идею переживания в искусстве «всех веков и всех наций» («Эмблематика символа»), Андрей Белый достигал и противоположного эффекта — эффекта, затем сказавшегося в набоковской прозе: цитаты, аллюзии, подсказки, сталкиваясь, в известном смысле уничтожали друг друг га. Может быть, таким образом мир искусства очищался от земных ассоциаций, герой освобождался от навязчивых прототипов. Может быть, это был один из путей создания сакрального языка, языка, адекватного инобытию.
Символисты пытались запечатлеть надмирную область в грандиозных образах Космоса, Вселенной, природных стихий, фантастического Универсума и т. д. Мифологические реалии, нетленные декорации искусства призваны были продлить семантическую перспективу символа, сделать его содержание необъятным, преодолевающим грани «смертной мысли».
Однако ирония была необходимым началом в символистском искусстве, и у многих художников — у Белого прежде всего — она воплощалась в самопародировании. Набоков унаследовал эту эстетическую тенденцию, развив ее и возведя в важнейший закон собственного искусства. Вместе с тем, если у символистов, скажем в драматургии Блока, ирония чаще всего означала пессимистическое осознание непреодолимого разрыва мира видимостей и мира сущностей, то у Набокова, как и, по-видимому, в «Петербурге» Белого, пародийная тема звучит сложнее.
Отказавшись от изображения того, «чего нет», Набоков совершал земную экспансию в сверхреальность, заполняя иные сферы обыденным и повторяющимся. Вечные темы, персонажи, сюжеты и идеи внезапно искажались в карикатурах затверженных трюизмов. Мировая культура, религия, философия заводили в «тупик тутошней жизни».
Но, облекая грезу и мечту в земные одежды, Набоков, возможно, только пытался застраховать ее от несовершенства нашего видения. Сакральная область парадоксальным образом воплощалась в царстве штампов, обнажая, обыгрывая, заостряя которые автор тем самым очищал ее и освобождал себя из плена «человеческого, слишком человеческого». Так переосмыслялся свидригайловский кошмар — банька с пауком, куда Набоков поместил Цинцинната.
Для иллюстрации нашей мысли обратимся к одному из ключевых мотивов «Дара» и «Петербурга» — мотиву пустоты. (Вспомним здесь: Цветаева говорит о родной Белому «стихии пустых пространств», тему Чернышевского-Белого в «Даре» сопровождает мотив пустоты.) Можно было бы привести множество примеров воплощений мотива в романах, однако сейчас нас интересует «пустота», или «ничто», в контексте буддийской темы «Петербурга» и «Дара».
«Рай Николай Аполлонович отрицал: рай, или сад (что, как видел он, — то же) не совмещался в представлении Николая Аполлоновича с идеалом высшего блага (не забудем, что Николай Аполлонович был кантианец, более того: когенианец); в этом смысле он был человек нирванический.
Под Нирваною разумел он — Ничто» [635].
Если в «Петербурге» буддийский орнамент проступает на поверхность текста: буддизм — философско-религиозная мода начала века, одна из ипостасей мозговой игры Николая Аполлоновича, то в «Даре» мы реконструируем этот орнамент по отдельным, рассыпанным в тексте деталям. Обратим внимание на географию «Дара»: как путешествие Годунова-Чердынцева старшего, тай и ссылка Чернышевского проходит в зоне распространения буддизма (ламаизма): Китай, Тибет (среди перечисленных предметов, привезенных отцом, — «лампада ламы»), Сибирь [636]. Вспомним восторг Набокова по поводу строк Белого из «Первого свидания»: «А из стихов — чудные строки из „Первого свидания“, — полон рот звуков: как далай-лама молодой» [637]. «Представитель» Федора, отправленный героем по следам отца, видит в Тибете гранитные глыбы, на которых можно было прочесть «мистическую формулу» — шаманский набор, слов, который иные поэтические путники «красиво» толкуют как: «О, жемчужина в лотосе, О!» (111). Имеется в виду буддийское заклинание: «Ом мани — падмехум» [638].