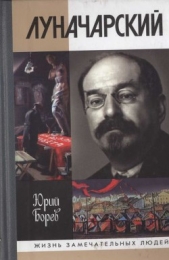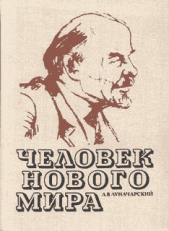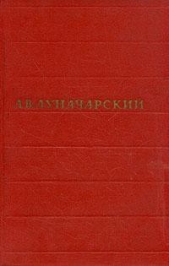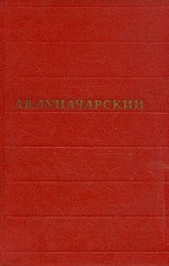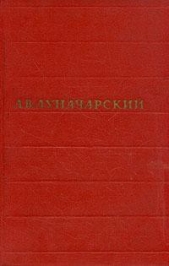Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще в одном отношении он был счастлив, — он по своей славяно-африканской натуре был склонен к страстному, оптимистическому реагированию на жизнь, к оптимистически повышенным настроениям. Это индивидуальная черта. Но время для такой натуры открывало некоторые выходы чрезвычайно счастливого характера, а именно: ведь он был человеком, который впервые мог наслаждаться открытием Америк на каждом шагу, который мог петь первые песни о самых счастливых сторонах жизни, он и сам не мог не быть счастливым этими сторонами своей души. Я потом ограничу то, что говорю. А пока установим, что Пушкин не мог не радоваться: вот природа, вот солнце, река, поле, вот женщина, которую я люблю, и я могу относиться к ней совсем по-своему, впервые выразить ее сущность; я все воспринимаю с огромной полнотой ощущений, чтобы перелить это в вечную форму; во мне весь мой народ нащупывает это счастье, я человек, которому, как великие дары, как дивную сокровищницу, подарил мир все, что есть хорошего. Вот отсюда рос реалистический оптимизм Пушкина; он вовсе не думает о потустороннем мире, его он чрезвычайно мало интересует, — он радуется здешней жизни, отмечает блеск ее красок, прелесть ее форм, захватывающие наслаждения. В этом смысле Пушкин счастлив, но в другом смысле он мученик русской литературы. При всем этом счастье над ним висело двуглавое чудовище, орел самодержавия, который начал терзать его с самых детских лет.
Это толкало Пушкина восславлять свободу, это давало ему ту хорошую отраву, которую можно называть идейной прививкой. Пушкин не мог не протестовать против самодержавия, и он протестовал, так что, по существу говоря, большая часть его произведений, и напечатанных, и не могших быть напечатанными, и даже сожженных им, была посвящена политической борьбе. Он был далеко вперед ушедшим революционером, и только потому непосредственно он не связался с декабристами, с той частью русского общества, которая старалась из-под грозы самодержавия выскользнуть, схватить за горло это чудовище, — только потому, что они сами его берегли, они его не подпускали. И замечательно, что Пушкин, который не был безрассудно смел, которому хотелось жить и который готов был склониться, чтобы его оставили в покое, этот Пушкин на прямо поставленный Николаем Первым вопрос: „Где бы вы были 14 декабря 1825?“ — ответил: „На площади Сенатской“. Он не хотел унизиться до того, чтобы скрыть, что, в сущности, он сердцем с декабристами. Это делает честь его благородству, и вообще чем больше знакомишься с Пушкиным, тем больше выигрывает эта совершенно исключительная по блеску своих дарований личность.
Но для него все это было страшная мука. Он не смел быть революционером. Для того чтобы защититься, он должен был иногда писать гимны в честь самодержавия. Когда Марксу говорили о том, что Гёте ведь негодяй, потому что он был министром, носил придворный мундир мелкого князька, льстил ему, то Маркс отвечал, что в высшей степени пошло и поверхностно так судить, потому что если Гёте сохранил нам великого человека тем, что он оделся в этот министерский мундир и защитил свою личность, защитил возможность творить, от ужасной германской среды, в которой он жил, то иногда такой оппортунизм, готовность поэта многое и многое отдать идолу действительности только для того, чтобы сохранить право жить, заслуживает полнейшего оправдания, является единственно правильной тактикой в такие времена. Мы могли бы сказать Пушкину: „Александр Сергеевич, лги, лицемерь, надевай маску, иначе съедят тебя, бесконечно дорогого, бесконечно нужного. Прячься, притворяйся, напиши „Клеветникам России“, только бы они тебя оставили“. Но, несмотря на то что он написал немало патриотического вздора, его все-таки не оставили в покое, все-таки погубили, потому что вся травля, жертвой которой он пал, была прямым походом двора и всей стихии пошлости, которая была, против русского гения: она его и погасила.
По аналогичности положения я не буду останавливаться на Лермонтове, но о Гоголе надо сказать несколько слов: посмотрите, как здесь ярко проявляется то же мученичество. По существу говоря, Гоголь, с одной стороны, большой шири романтик. Может быть, тов. Переверзев несколько уменьшает значение его романтики, когда говорит: какой он в своей романтике лживый позер, фразер. Он был позером, потому что он в действительности ничего хорошего не видел. Ему надо было то, что было хорошего, доводить до гиперболы, чтобы создать действительно что-нибудь красивое, что уравновесило бы его при виде чудовищной действительности. Но это не значит, чтобы у Гоголя его фантастика была чуждым правде его сердца элементом. Тысячу раз прав Брюсов, когда говорит, что Гоголь не реалист, а фантаст русской литературы 5. Но где его фантастика получила наибольшую форму, настоящую форму, настоящую почву, — это в области зла, так как красоты, добра было очень мало в русской действительности, а зла сколько угодно, куда ни взглянешь — всюду махровое зло и выпуклое уродство. Тут фантастика заключалась в том, чтобы типизировать и гиперболизировать это зло, чтобы давать его квинтэссенцию. Это он и делал. Квинтэссенция зла, данная таким страшным талантом, как Гоголь, была бы, вероятно, превосходящей всякие силы человеческие. Поэтому он смягчал это юмором, он давал это в смехе победоносном. „Смотрите, какие смешные рожи. Смейтесь над ними. Ведь вы лучше“. Юмор есть насмешка над уродливым, отвратительным — сверху вниз. Поэтому он не царя избрал, а городничего, не российскую действительность во всем объеме, а какой-то Миргород. Мельчил в смысле важности враждебной силы, но углублял в смысле типичных черт и, таким образом, выходил из этого положения хоть как-нибудь, но чувствовал прекрасно, что, по существу говоря, не выполняет своих обязанностей писателя. Он настолько был талантлив и то, что он дал, настолько приветствовалось его народом, что у этого человека, болезненно честолюбивого, невольно рос мучительный запрос к себе:
„Ты, великий писатель земли Русской, что ты несешь своему народу?“
То, что он посмеялся над Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем — вот это? „Ты должен дать что-то великое, потому что ты великий писатель великого народа“. Он бы и мог дать такое великое, если бы он свой гигантский талант сатирика направил прямо на русское самодержавие, на русскую буржуазию, на русского помещика, на русскую церковь. Они затрещали бы от напора его разрушительного смеха. Но он не желал. Он знал, что это означает каторгу или, может быть, казнь. Я не говорю, что Гоголь чувствовал как революционер и, испугавшись, отошел от этого. Не так. Это делается психологически, внутри, в подсознательном понимании: „Не смей!“ Написал „Ревизора“ и чуть не попался. Написал бы „Шинель“ немного не так, и капут бы тебе был. Чуть начни колени обсуждать, а не только ноги России, и тебя пристукают. Таким образом, мы имеем здесь внутреннее сознание, а возиться с галошами своего народа нельзя, хочется размахнуться. Поэтому он выдумал разрешение мучительного для его собственного сознания противоречия, которое выразилось в том, что он изобразил русскую пошлость маленьких русских людей, а самодержавные цари — это-де великая, благословенная величина, за которую надо держаться. Да, благословенная, да, великая. Верь, ты должен верить. А вот есть проклятые революционеры, которых надо ненавидеть, — потому что он сам не мог этого, потому что у него не было закала борца. Поэтому чем больше он изображал основные начала русской жизни, тем больше внутренне мучился, тем больше ненавидел тех, которые были не согласны с ним, и тем больше заходил в тупик, который привел к тому, что Гоголь сжег свою душу, а потом и тело на этом постоянном внутреннем страшном разрыве. Гоголя самодержавие убило тем, что не дало ему выпрямиться, что заставило его свернуться внутри, разменяться на мелочи и, сделав усилия, чтобы выйти пророком, заставило этого пророка возгласить благословение тому самодержавию, которое должно было быть проклято. Как пророк Валаам раскрыл уста для проклятия, а изрек благословение, так он, предназначенный проклинать… разверз уста для благословения подлого строя, за что получил от Белинского достодолжное воздаяние. Белинский осудил его, и этого Гоголь забыть не мог.