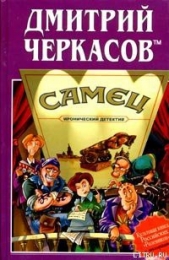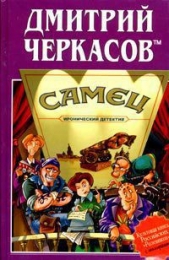Литературные силуэты

Литературные силуэты читать книгу онлайн
Знаменитая серия критических портретов писателей и поэтов-современников А.К. Воронского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда — это потемкинские матросы («Три дня»), но чаще Диди, ОъКелли, Сеня и др. Потемкинские матросы вообще вне поля зрения Замятина. Родился и вырос он в «Уездном»; народ у него большей частью — в образах Аржаных, Тимох, Непротошновых, пьяниц Гусляйкиных, парней, от скуки поливающих водой до полусмерти мальчонка, либо проделывающих эксперименты с краской и собакой, или — мужиков, бунтующих против сыра («мы это самого мыла тогда фунтов пять приели»). Крестьянина, который по-иному выглядит, например, в записях С. Федорченко или в партизанских рассказах В. Иванова, у Замятина нет. Глазами этих матросов, мужиков, рабочих Замятин не может смотреть на то, что кругом. Интересно, что в своих воспоминаниях о потемкинских днях автор свое внимание сосредоточивает тоже только на миге — три дня, — когда все, казалось, рушится, выходит из берегов. Поэтому момент ему и ценен. Общей связи этих дней с революцией в рассказе совершенно не чувствуется. Автору это и не нужно.
Вот почему в «Островитянах» и в «Ловце человеков» в проинтегрированную жизнь Краггсов и Дьюли вносят бунтующее Диди, ОъКелли и даже Кембл. Бунт получается не очень опасный, ибо берутся не корешки, а вершки. Остро, но допустимо. Бунт — благонамеренный, не тот, на который способны матросы, рабочие, крестьяне. В конце концов здесь только непутевость, узко-индивидуальный протест, от него основы потрясаться не будут. Да писатель и не о том заботится: ему нужно противопоставить проинтегрированной жизни миги, индивидуальное бунтарство, то малое и незначительное и интимное, которое, однако, запоминается и ценится автором превыше всего. В «Уездном», в «На куличках» протесты и борьба тоже личные, в одиночку; других форм борьбы писатель вообще не видит, не отмечает, не ценит. Поэтому у него всегда борьба кончается поражением. Иначе и быть не может, когда во главу угла ставится исключительно индивидуальное. В наше время, повторяем, это мало и поверхностно. А когда художник склоняется к политическому памфлету, можно заранее предвидеть, что у него будут неудачи.
За всем тем и «Островитяне», и «Ловец человеков» остаются мастерскими художественными памфлетами, несмотря на их ограниченное значение. Как и «Уездное», «На куличках», «Алатырь», лондонские вещи писателя останутся в литературе. Нужно еще помнить, что «Островитяне» вышли из печати, когда многие из братьев-писателей, почитавшие себя хранителями заветов старой русской литературы, узрели в викариях Дьюли и мистерах Краггсах носителей человечности и гуманности, прогресса и иных добродетелей не в пример злокозненным большевикам. Замятин впоследствии не удержался на своей благородной, истинно и единственно по-настоящему «бунтарской» позиции, но об этом речь ниже.
Художественные достоинства «Островитян» и «Ловца» — несомненны. Способность одним приемом дать образ, характер закреплена в отвердевшей форме. Викарий Дьюли, мистер Краггс — как выкованные. Замятин художник-экспериментатор, но экспериментатор особый. У него эксперимент доведен до крайности, до предела, так сказать, эксперимент в чистом виде. В стиле Замятин ушел от народного модернизированного сказа — это так и нужно в повести о Лондоне. Впервые художником дан тот отчеканенный, сгущенный стиль с тире, пропусками, намеками, недосказами, та кружевная работа над словом и поклонение слову, тот полу-имажинизм, которые впоследствии сильно отразились на творчестве большинства серапионов. До мелочи тщательная работа, столь кропотливая, что приходится все время держать себя в напряжении, вчитываться в каждую строку. Это утомляет, даже подчас доходит до манерности, до пресыщенности, словно автор играет своим мастерством. Особенно переделан «Ловец человеков».
III
В рассказе «Непутевый» между конспиратором и подпольщиком Исавом и Сеней-непутевым происходит такой разговор:
Исав говорил:
— И как можно верить во что-нибудь? Я допускаю только и действую. Рабочая гипотеза, понимаете?
Петр Петрович к Сене обернулся:
— Ну, а ты?
— Я-а? Да что ты, чтоб я… да глаза бы мои не глядели на программы все ихние. Слава Богу, в кои-то веки из берегов вышли, а они опять в берега вогнать хотят. По мне уж половодье, так половодье, во-всю, как на Волге…
В соответствии с этим непутевому Сене дается явный моральный перевес: Сеня геройски гибнет на баррикадах, а Исав резонерствует по поводу его бессмысленной гибели, хотя в холодном, даже враждебном уважении своем автор не отказывает Исаву.
Положение — глаза бы мои не смотрели на программы все ихние — органически вытекает из всего художественного мировоззрения писателя. Как мы видели выше, Замятин подошел к сложным явлениям общественной жизни с физической теорией о двух силах в мире: энтропии и энергии. Вышло у него при этом так, что начало разрушительное действует «в мигах», «случаях», в индивидуальных, интимных порывах человеческого духа. С этой же меркой художник подошел и к русской революции. Получилось то, что должно получиться в этих случаях. Теория о двух силах в приложении к обществу не то, что не верна, а прежде всего отвлеченна, а следовательно и не верна. Это — общие, ничего не значущие места, не заполненные ничем конкретным; живая жизнь тут вытекает, как вода между пальцами. Есть по сути дела мертвая схема, приложимая к чему, где, как и когда угодно; отвлеченное бунтарство, революционизм, еретичество во имя еретичества. «Половодье», «мучительно-бесконечное движение», «непутевость», «отшельничество», — все это очень пусто, незначуще, абстрактно. В «Островитянах», да и в «Уездном», в «На куличках» это отвлеченное бунтарство в большой мере обессилило художника. В отношениях писателя к русской революции оно привело к органическому ее непониманию. Так и должно было случиться: как только «еретик во имя еретичества» попытался с горних высот спуститься на землю, получился большой разлад. На земле «бунтующей» тоже оказались «программы ихние», мужики, рабочие, массы; на земле ставились конкретные, «земляные» цели. Очень мало интересовались интимным, личным бунтарством вообще, зато подготовляли и пускали в действие огромнейшие коллективы: коммунистов, Красную армию и пр. Исторически и социологически отвлеченный революционизм и так называемый духовный максимализм выражали предреволюционную розовую интеллигентскую романтику и еще до революции указывали на существенный разлад идеала и действительности в сознании широких кругов интеллигенции. Ликвидация самодержавия мыслилась необходимой и желанной, но с другой стороны, уже тогда интеллигенция опасливо оглядывалась на стихийный рабоче-крестьянский большевизм. Отсюда — желание увидеть революцию благородной, сделанной не корявой рукой мужика и рабочего, а чистыми руками с отшлифованными ногтями. Как только обнаружилось, что этого не будет, что революция будет корявой — бунтарство русских ОъКелли и Сенек быстрейшим манером развеялось, подобно дыму. Духовный максимализм и свирепейшее еретичество остались вдруг где-то за пределами революции, обнаружилось, что у максимализма «душа видом малая и отнюдь не бессмертная», что всесветный революционизм выглядит очень уж, даже до чрезмерности, культурным, умеренным и аккуратным, что посягает он завоевать небеса, а не землю грешную, — что это говорилось о революции духа, в каком-то особом огненном преображении, а совсем не об этой, как ее бишь, «республике этой», — о мигах интимных и всеочищающих, а не то, чтобы усадьбы грабили, фабрики отбирали и культурные ценности растаскивали по хатам и т. д., и т. д.
У Замятина мы видим: и это якобы-непримиримое бунтарство, принципиальное и неугомонное, — и народ в образах Аржаных и Гусляйкиных, — и взгляд на идеал, как на нечто неисправимо оторванное от земли, — признание революции в духе, в мигах интимных, — и отчужденность, холодную отдаленность от подлинного лика революции и враждебность к ней.
Как бы то ни было, после Октября Замятин написал ряд рассказов, сказок, доставивших несомненное удовлетворение самым ярым врагам Октября и большое искреннее огорчение и негодование знавшим и ценившим его талант: «Дракон», «Мамай», «Пещера», «Церковь божия», «Арапы», «Сподручница грешных» и, наконец, роман «Мы». Из них самой талантливой вещью является «Пещера» и самой серьезной «Мы».