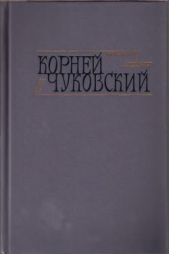Критические рассказы
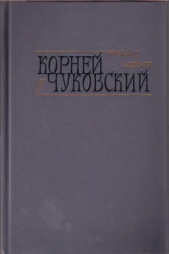
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так и сказано: «от своих идеалов»! Ибо эти люди, как давно уже подмечено Зощенко, прикрывают шкурнические свои аппетиты словами высокого стиля, не лишенными революционной окраски. А подлинная их вера со всей откровенностью выражена в афоризме Володина (в новелле «Сирень цветет»):
«Без корысти никто никогда и ничего не делает».
Все они верны этой заповеди, и Зощенко лишь тогда примиряется с ними, когда, пережив катастрофу, они освобождаются от хищнических своих вожделений, как это случилось с Забежкиным. Наглая бабища желает купить у него по дешевке пальто, которое он вынес для продажи на рынок, и вдруг он говорит ей, потупившись:
— Возьмите так, Домна Павловна.
Это «Возьмите так», этот полный отказ от стяжательства, противоречащий всем «идеалам» и «принципам» алчного мира, знаменует собою для Зощенко победу раздавленного жизнью человека над корыстной стихией мещанства.
На последних страницах повести, едва только Забежкин произнес свое «возьмите так», он становится для автора праведником с просветленной душой.
Недавно я перечитал эту книгу. Она по-прежнему для меня обаятельна. Меня снова обрадовала самобытность ее многосложного стиля, в котором ирония сочетается с лирикой, озорство и дурачество — с глубокой серьезностью, скептический, насмешливый тон — с задушевным. И над всем доминирует щемящая жалость, сокрытая в подтексте так глубоко, что иной неопытный читатель даже не приметит ее. Тем более что Зощенко, словно стыдясь своей жалости, то и дело напускает на себя равнодушие и даже брезгливость, постоянно уверяя читателей, что его нисколько не волнует жалкая судьба этих пустяковых людей. Чтобы лучше скрыть свои эмоции, он часто прибегает к пародии, вводя в повествовательную ткань пошловатые штампы старых повестей и романов:
«Ужасная бледность покрыла ее лицо».
«Гнев зажегся в ее глазах».
«Было прелестное майское утро».
А порою столь же издевательски передразнивает «загогулистый» стиль модных в те времена беллетристов:
«Море булькотело… Трава немолчно шебуршала… Девушка шамливо и раскосо капоркнула».
Но даже этот пародийный фальцет не в силах скрыть его подспудное чувство, потому что оно проявляется в лирике. Это самая лирическая книга из всех, какие написаны Зощенко. Помню, живя в Сестрорецке, я пришел к нему как раз в ту минуту, когда он закончил свою «Страшную ночь», и он прочитал мне ее своим медленным, ровным, певучим, задумчивым голосом. Я воспринял ее как стихи, — так ритмически звучала эта проза. И я еще сильнее ощутил музыкальность причудливой книги, которая из-за своей многостильности осталась почти недоступной элементарным вкусам той обширной толпы, которая видела в Зощенко своего развлекателя. В автобиографических записках он сам вспоминает, что, когда он попробовал было выступить перед этой публикой на какой-то эстраде с чтением одной из своих наиболее серьезных вещей (очевидно, с «сентиментальною повестью»), ему грубо закричали из зала:
— «Баню» давай… «Аристократку»… Чего ерунду читаешь!
«Ах (с тоскою подумал он), если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе — вечер был бы в порядке». [405]
Именно этого и требовала от него та толпа, которую он клеймил в своих книгах.
Замечателен язык «Повестей». Он сильно отличается от того языка, какой воссоздан в «Уважаемых гражданах».
Это почти литературный язык, но — с легким смердяковским оттенком: «какой фазой земля повернется в геологическом смысле», а «супруга невесть где бродит по случаю своей красоты и молодости..». Это язык полуинтеллигента тех лет, артистически разработанный Зощенко во всех своих оттенках и тональностях.
Здесь второе новаторское открытие писателя, — словарь и фразеология современных ему полукультурных людей («Уважаемые граждане» совсем некультурны.) Он не только изучил этот язык, он сделал его своим, и в то время ему одному было дано извлекать из этого нелепого наречия столько блистательных литературных эффектов.
Писатель большой темы, большого гражданского чувства, большой, встревоженной, не знающей успокоения совести, — таким пред нами встал Зощенко в этой знаменательной книге.
Поэтому таким отъявленным вздором показались мне безумные строки, посвященные ему в «Литературной энциклопедии» 1930 года:
«Анекдотическая легковесность комизма и отсутствие социальной перспективы отмечают творчество Зощенко мелкобуржуазной и обывательской печатью».
Назвать обывателем самого ярого врага обывательщины можно было только при полном пренебрежении к истине.
VI. Беда и победа
Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.
В 1931 году я надолго уезжал из Ленинграда. А когда воротился домой и встретил Михаила Михайловича, меня поразила происшедшая с ним перемена. Он сильно поблек и осунулся. Красота его как будто полиняла. Я стал расхваливать его «Сентиментальные повести». Он слушал неприязненно, хмуро, и когда я сказал, что они особенно дороги мне изобилием разнообразных душевных тональностей, из-за чего эту книгу не может понять бесхитростный, неискушенный, наивный читатель, он заявил, что это-то и плохо в его повестях, что он ненавидит в себе свою сложность и отдал бы несколько лет своей жизни, чтобы стать наивным, бесхитростным.
При всякой нашей встрече он возвращался к этому разговору опять. Он говорил, что ему отвратителен его иронический тон, который так нравится литературным гурманам, что вообще он считает иронию — пороком, тяжелой болезнью, от которой ему, писателю, необходимо лечиться. Потому что для демократического читателя, к которому он и обращается с своими писаниями, превыше всего — здоровая ясность и цельность души, простота, добросердечие и радостное приятие мира.
— Прежде чем взять в руки перо, я должен перевоспитать, переделать себя — и раньше всего вылечить себя от иронии, которую во мне пробуждает хандра.
Хандра действительно была проклятием всей его жизни. Теперь, к середине тридцатых годов, он окончательно утвердился в той мысли, что она-то и мешает ему, писателю, изображать жизнь во всем ее блеске и что усилием воли он должен преодолеть эту хворь. Только тогда у него будет право на творчество. С завистью цитировал он Анну Ахматову:
А хандра у него и в самом деле была свирепая, и мне довольно часто случалось ее наблюдать.
Приведу, например, одну выписку из моего дневника от 2 ноября 1929 года.
«Я сидел у себя в комнате и, скучая, томился над корректурными гранками. Вдруг телефонный звонок. Настойчивый голос Михаила Кольцова.
— Хотите посмеяться? Бросьте все и приезжайте ко мне в „Европейскую“. Ручаюсь: нахохочетесь всласть.
Я бегу что есть духу в гостиницу — сквозь мокрые вихри метели, — и, чуть только вхожу к Михаилу Ефимовичу в большую теплую и светлую комнату, я чувствую уже на пороге, что сегодня мне и вправду обеспечена веселая жизнь: на диване и на креслах сидят первейшие юмористы страны — Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров.
И тут же Кольцов, их достойный собрат. Он, как всегда, возбужден. Шагает на высоких каблучках по ковру от двери к окну и обратно. Присядет на минуту, отхлебнет из стакана и снова начинает шагать. Невысокого роста, подвижной, худощавый, он очень похож на подростка, который только притворяется взрослым. Загруженный десятками ответственных дел — он и дипломат, и писатель, и авиатор, и глава одной из крупнейших издательских фирм, — он часто страдает мигренью, часто бывает озабочен, затормошен, издерган, но сквозь все его заботы и тяготы всегда готово пробиться веселье, особенно среди близких его сердцу людей. Порою мне кажется, что, если бы не эти просветы веселости, ему никогда не поднять бы столько тяжелых работ.