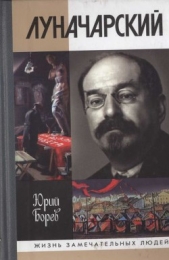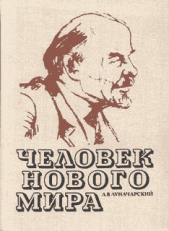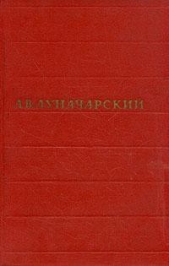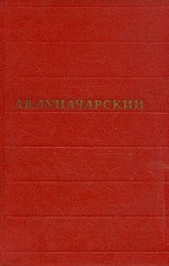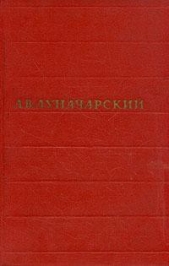Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Блок является выразителем дворянства. Он должен быть поставлен в одной линии с дворянскими идеологами и, так сказать, в конце этой линии. До известной степени он может быть назван последним крупным художником русского дворянства.
Именно постольку, поскольку он стоит в конце линии исторического развития дворянства, он выражает его в период его сугубого распада. Блок, сильно зараженный дворянскими традициями, вместе с тем носит в себе и отрицательный заряд-заряд ненависти к своей среде, к своему классу; поскольку он находит его в состоянии расслабленности, распада и поскольку сам является продуктом такого распада, Блок отнюдь не может искать спасения в наиболее (внешне) твердом ядре дворянства, то есть в реакционном, чиновном и крепком помещичьем дворянстве.
Распад дворянства сказался, между прочим, и в том, что его более или менее прогрессивные представители оказались отщепенцами от этого центрального ядра своего класса.
В русской литературе мы находим целый ряд представителей дворянства, которые сознательно или полусознательно защищают свою дворянскую культуру от самого страшного врага, какого дворянство перед собой видело, — от буржуазии, от капитализма. Но, защищая ее, эти дворяне не смеют больше опираться просто на черносотенный стержень дворянского класса. Наоборот, они сознают, что такого рода дворянская традиция, такого рода дворянская крепость является наиболее гиблым местом в их классе. Они морально чураются этого коренного ядра своего класса как своего рода черного и грязного пятна на его лице. К этому присоединяется иногда смутное, но все же тревожно проступающее сознание, что эти механические, насильственные, черносотенные методы самозащиты осуждены на поражение — и поражение тем более жестокое, чем жесточе высказывает себя самозащита.
В сущности говоря, все дворянское народничество являлось такой попыткой защитить свою культуру против наступающего капитализма и того, что он вел за собой и что в известной степени осознавалось этими дворянами, — путем возвеличения не помещичьих позиций, а дополняющих помещика позиций крестьянских.
Мужицкая правда, которая известными своими сторонами близка и родна «барину», выдвигалась этим последним как его собственная правда. Барин прятался за мужика, прятал усадьбу за деревню и уже тут развертывал мужицкую идеологию, как ему на душу клало его классовое сознание, более или менее обрабатывая мужика в духе стихийной романтики (Бакунин), или исконного доморощенного социализма (например, Герцен), или в духе необычайно чистого «богопознания» и «высокой нравственности» (Толстой) и т. д.
Блок застает свой класс в положении крайнего распада (его центральное ядро — в форме победоносцевской и послепобедоносцевской формации), а наступление буржуазии необычайно крепким и победоносным, но в то же время исполненным предсмертных тревог ввиду более быстрого, чем ожидалось, наплыва на буржуазию ее антипода — пролетариата.
Ненавидя буржуазный мир, Блок страшился конца буржуазии и наступления неизвестных, небывалых еще в истории, дней. Однако же и он из обрывков дворянских традиций, романтизированного мужичества (стихия «народа») и неясной, терпкой, встревоженной, жгучей симпатии к силам революции создавал себе некоторое подобие миросозерцания, которым и старался ответить на все более и более бурную общественную обстановку.
Класс, притом в определенную эпоху его жизни и притом определенная разновидность класса: разоряющееся, полудеклассированное среднепомещичье дворянство в его интеллигентнейшей части, в его переходе к профессиональной мелкой буржуазии (поэт, живущий своим пером), — вот что определяло общую установку Блока как гражданина, как политического мыслителя (поскольку можно об этом говорить), как философа (опять-таки в блоковских границах). То обстоятельство, однако, что Блок был поэтом и что как поэт именно он добился широкого признания, стал поэтическим рупором довольно широких кругов русской интеллигенции, — это уже зависело в значительной мере и от его чисто личных свойств.
Миросозерцание Блока, повторяю, целиком определяется классом и эпохой. Но почему это миросозерцание, выражаясь более или менее четко в публицистических статьях Блока, в его дневниках, письмах и т. д., главным образом и чрезвычайно своеобразно отразилось именно в поэзии, — это момент в известной степени индивидуальный.
Конечно, только в известной степени, что мы сейчас и поясним.
Блок сделался поэтом, потому что был до чрезвычайности чувствительным. Повышенная впечатлительность — это база художественного призвания и художественного успеха. Мы можем, однако, представить себе художника, в котором очень сильна мысль; образы его отличаются четкостью и истолковывают ту действительность, в контакте с которой творчество писателя породило их, почти с такой же определенностью, как это может сделать язык понятий, но только, конечно, конкретнее, ярче и эмоциональнее. Однако дворянский класс в эпоху, в которой жил Блок, не нуждался в таком поэте, и если бы подобный поэт явился рядом с Блоком, то он, даже при условии значительной даровитости, не мог бы найти себе поклонников. Наоборот, чрезвычайная раздерганность, неопределенность, шаткость восприятия окружающей действительности, неясность путей, которые можно было бы найти в ней для себя, — все это заставляло особенно восторженно приветствовать такого поэта, для которого образы являются не столько истолкованием действительности, выражением глубоко художественного познания этой действительности творцом, сколько, наоборот, проявлением неспособности познать эту действительность, а отсюда враждебности к ней.
Враждебность ко всей окружающей действительности (в значительной мере включая сюда собственное свое сознание и собственную свою психику) должна привести к отчаянию, и Блок часто был к нему близок. Однако он не был чистым поэтом отчаяния. Наоборот, почти во все периоды своего творчества он старался найти для себя и для своей «паствы» какие-то пути утешения.
Да, действительность непонятна и ненавистна, но, быть может, она только грязный покров, под которым скрывается высокая тайна? Быть может, отдельные красоты природы, человека, искусства есть только тайное указание на нечто, пребывающее за пределами и манящее туда, обнадеживающее человека? И, быть может, не только полетом к святой мечте на белых крыльях можно, хотя бы в воображении и смутно, — «в зерцале гадания», как говорил апостол Павел, — коснуться к мирам иным, но и на дне порока, на дне сатанинского в жизни, того забвения, которое дает пьянство, разврат, — словом, на дне «бездны» обрести такое же соприкосновение с какой-то вечной силой, находящейся по ту сторону добра и зла, но обещающей вырвать человека из всех стеснительных правил, проблем, колебаний и забот и погрузить его в пламенный океан вневременной и внепространственной музыки подлинного бытия?
Быть может, наконец (третий период творчества Блока), именно революционный шквал, который близится, при ближайшем рассмотрении окажется тем наступлением божественной пляски острых, непокорных первозданных стихий, которые прорвутся словно лава сквозь прозаическую, надоевшую кору повседневщины?
Блок всегда остается революционером по отношению к бытию, каким оно проявляется изо дня в день. Он старается воспринять это бытие либо как помеху, либо как символ, как намек на нечто радикально иное. Но он не в состоянии удовлетвориться какой-нибудь определенной религиозной системой. Да, пожалуй, хитрых и искушенных современников он не мог бы и «утешить» на какой-нибудь определенной религиозной проповеди или на какой-нибудь педантически сконструированной метафизике (будь то хотя бы и соловьевщина 1). Но именно намек на что-то невыразимое — то на бело-голубые высоты, то на черно-желтое, то на пожарно-красное, без какой бы то ни было определенности, но с широтой, с размахом, с красотой самой неопределенности, — вот это могло быть тем вином, в котором, быть может, лежит, лишь вещему чувству открывающая себя, истина.