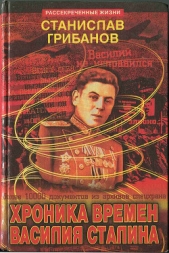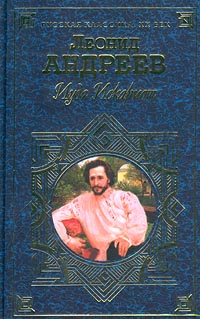Театральные взгляды Василия Розанова

Театральные взгляды Василия Розанова читать книгу онлайн
Книга является первым исследованием философских взглядов В. В. Розанова (1856–1919) на театральное искусство рубежа XIX–XX вв., до сих пор не ставших достоянием культурной общественности. Её персонажи — М. Н. Ермолова, К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, Л. С. Бакст, А. Дункан и другие. Приведены интересные подробности из сценической практики Малого, Александрийского и Суворинского театров, Театра В. Ф. Комиссаржевской. Особое место уделено классической драматургии (Гоголь, Л. Н. Толстой, Грибоедов, Чехов, Эсхил, Софокл, Метерлинк, Ибсен, Гауптман), а также ряду драматургов эпохи модерна и революций.
Весомую часть монографии составили не републикованные в постсоветское время статьи Розанова о театре, некоторые архивные материалы и полемика вокруг статьи «Актер». Материалы снабжены научными комментариями.
Издание адресовано читателям, интересующимся творческим наследием Василия Розанова, вопросами театра, религии, истории предреволюционной России, массовой и элитарной культуры Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот ощущения европейца Розанова от выступлений сиамского балета (Розанов пишет две статьи «Балет рук» и «Занимательный вечер»): «Лица восковые, бледно-бледно-серебристые, как потемневшее старое серебро <…> заснувшее лицо, которое видит. „Это — спящие и не пробудившиеся люди“ — так мелькало у меня в голове при зрелище. „Вот странный народ: сущность их истории — непробужденность“. В Европе люди пробудились и забегали, и беготня есть сущность европейской истории» {127}. «Спящие головы» сиамцев — это, по Розанову, то состояние культуры, когда «голова» еще не выделилась из «общего тела», когда книжная, мозговая сила еще не заменила природную, живую, инстинктивную. В Европе наоборот — черты лица выражают индивидуальность: «Голова наша пылает, а уж тело почти не живет. Голова страшно удалилась и отделилась у нас от тела» {128}.
Народ, верящий, что природа и Бог находятся в них самих, рядом с ними, не озадачен вечным поиском истины и смысла во внешнем мире, как озадачены им беспокойные, нервные европейцы. Их вера — они сами, их божество — это то, что их окружает. Поэтому их модель театра — вдохновенное подражание природе: «Возьмите лес лиан, этих тонких для дерева и толстых для змеи колец и лент, которые сплетаются и переплетают внутри себя гигантские стволы тропических лесов, — и, далее, эти лианы изогнутые приведите в таинственное сомнамбулическое движение, темное, не проснувшееся, неудержимое в каждую порознь секунду и ни в одну секунду не ускоряющееся, — и вы получите сиамский танец!» {129}. Для сиамцев, людей «глубинного» Востока, окружающая их природа, получившая статус божества, есть олицетворение родовых, материнских сил. Природа — мир предков, а позывы природы — «зов предков». Поэтому подражание вечно меняющейся природе есть поклонение родовой бесконечности, неиссякаемой силе Пола: «Балет сиамский выражает рост дерева» {130} и далее «мир, жизнь мира, рост „былинок“ {131}.
Позже Розанов напишет в тех же словах и интонациях и о пляске Айседоры Дункан, ориентированной на природоцентричное искусство: „Вот росло растеньице и выросло“. Росла и девушка, и тоже выросла. Рос и целый народец, как их мирты, как тамошние кипарисы, оливы. И рост этот, самое ощущение роста — было глубоко блаженно, физиологически благодатно» {132}.
Вместе с тем сиамский балет — это религиозный обряд, священный танец. Рост природы, созревание, вечное развитие, родовая бесконечность — это именно религиозные идеи восточных конфессий. Творчество, искусство для сиамцев тождественно посещению храма, храма природы. Их искусство — молитва Богу-Солнцу. И, наконец, оно и есть сама жизнь, жизнь в согласии с природой. «Бог всегда с нами» — вот не проговоренная мысль их танца. Вера, ставшая искусством и теснейшими корнями проросшая в самой жизни, — здесь есть чему позавидовать бедным европейцам, чья вера резко и жестоко противоречит всему строю жизни и чье искусство — блаженный сон о Востоке, о рае, который навсегда потерян, о шепчущихся звездах, которые бесконечно далеко от нас и от нашего Бога.
Мысли о духе Востока, выраженном в искусстве танца [12], — пусть даже весьма отвлеченные — часты в розановской публицистике {133}. Та глубокая разница между античной и восточной пластикой, которую замечает Розанов («Статуи их [древних греков. — П.Р.] всегда в позе, но никогда или очень редко — в движении. Вообще пения тела, музыки тела они не передавали и может быть не заметили» {134}) — не есть ли та самая разница между классическим балетом и современной хореографией, что сегодня так явственно и остро ощущается знатоками балета, та самая разница, которая привела к кризису и стагнации классического танца и развитию «движенческого» жанра, контактной импровизации, в основе которой лежат все те же природные инстинкты. В этой связи можно смело причислить Василия Розанова к первым пропагандистам нового стиля «современной хореографии». Розанов не просто поддерживает жанр, но и формулирует его основные эстетические положения.
Уже не раз говорилось о том, что в России начала века развились серьезные предпосылки к созданию школы современного танца. Этими предпосылками не сумели тогда воспользоваться, о чем теперь, когда в этом жанре мирового искусства Россия значительно отстала, мы жалеем. В этом контексте некоторые тексты Розанова можно было бы действительно «поднять на щит» как своего рода первые российские манифесты современного танца. Не случайно добрую половину газетной статьи «На печальном остатке жизни» (опубликована в Приложении) Розанов отдает собственному пересказу фрагментов книги Айседоры «The Art of the Dance». Причем в своем миссионерском желании даровать России теорию нового искусства Розанов и сам хочет подписаться под каждым словом Дункан. Сверка текстов дала интересный результат: кусок, который дает Розанов, является весьма вольным пересказом мыслей, скомпонованных в хаотическом порядке из нескольких параграфов книги Дункан. А это уже, согласимся, серьезный неформальный труд.
Другой тип «природного» театра с европейскими корнями — творчество сицилианского трагика Джованни ди Грассо. Российские гастроли итальянской труппы были заключительной фазой триумфального мирового (Европа и Южная Америка) тура трагика, где он заручился восторженными отзывами первых людей мирового театра — Гауптмана, Бьернсона, Д’Аннунцио, Сальвини, Ирвинга, Франса, Росси. В Петербурге с 11 по 14 ноября 1908 года ди Грассо показывает «Отелло» Шекспира и «Сельскую честь» Джованни Верга, но наибольший восторг публики неизменно вызывают бытовые деревенские трагедии, написанные южноитальянскими драматургами-любителями, — «Феодализм» («Feudalismo») и «Проклятие» («Malia»).
Для Джованни ди Грассо, потомственного актера, как и для сиамцев, театральное творчество есть сама жизнь. Он живет сценой, на подмостках впадая в «транс жизни». Розанов восхищается не столько увиденным искусством, сколько отношением к искусству, которое не походит на «службу» актеров Императорских театров. В совершенно диких, нецивилизованных и, с точки зрения «просвещенной Европы», непрофессиональных актерах кипят первобытные страсти, народная стихия: «„Сколько солнца!“ — думалось, глядя на этих беспрерывно, скороговоркой стрекочущих второстепенных лиц пьесы „Феодализм“ <…> глядя на сицилианцев, я завидовал именно этому солнцу в характерах их, в словах, в складе речи и движений» {135}. Профессиональные газетчики-рецензенты в тех же интонациях писали о невиданном «первобытном», «первородном» искусстве, заявившем о себе в эпоху декадентской стилизации и потрясшем бесстрастную публику осеннего Петербурга. В итальянских актерах увидели даровитых детей природы, искренних в каждом своем проявлении, бесконечно естественных в игре: «На вызовы выходили и раскланивались опять-таки с непривычной для нас экспансивностью. Прижимали руки к сердцу, целовались между собой, подпрыгивали от радости» {136}.
Исаак Бабель в очерке о выступлении Джованни ди Грассо в Одессе вспоминает, каким бешеным успехом пользовался провинциальный трагик у кабатчиков, биндюжников и негоциантов с привоза. Одесский успех был сильнее петербургского, на юге ди Грассо нашел адекватную, восприимчивую публику, в то время как зал петербургского театра «Консерватория» большей частью пустовал. Александр Измайлов отмечает близость итальянской народной трагедии к малороссийскому театру Старицкого и Кропивницкого [13] с их «горилкой и коханием парубков, сварливыми свекровями и зажиточными кабатчиками, перебивающими невесту бедных влюбленных» {137}. Бесхитростной игрой Джованни ди Грассо движет исключительно реальное чувство — врожденное природой ощущение полноты бытия, которое и составляет главную прелесть «народной души» и которое нужно защищать от посягательств. Основным выразителем этой «души» становится народный театр — в то время когда литература (как сицилианская, так и малороссийская) еще молода и не способна дорасти до высокой словесности и тем более до литературности, которая способна эту «народную душу» совратить. Актерская техника в таком театре тождественна умению «притворяться», «показывать» силу «души», «натуры», «нрава».