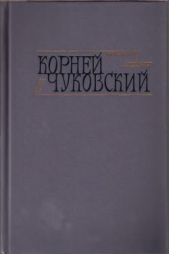Критические рассказы
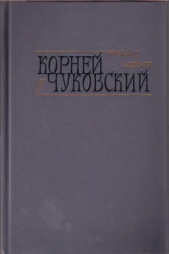
Критические рассказы читать книгу онлайн
Корней Чуковский работал во многих жанрах. Начинал он в 1901 году как критик. В разные годы выступал в печати как историк литературы, литературовед, мемуарист, переводчик, теоретик художественного перевода, лингвист, детский писатель, исследователь детской психологии. В предлагаемый двухтомник вошли его сказки для детей, статьи и книги о детях (том 1) и его критические работы (том 2).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вот пришли какие-то строгие люди сугубо административного вида. Они прослышали о вторжении постороннего лица в стены Студии и безапелляционно потребовали, чтобы старичок удалился (так как он будто бы мешает нашим студийным занятиям) и чтобы мы запретили ему когда бы то ни было возвращаться сюда.
За гонимого вступился Глазанов, а вместе с Глазановым, к моему удивлению, Зощенко, который, внешне сохраняя ледяное спокойствие, начальственным голосом предложил этим людям уйти и не мешать нашим студийным занятиям.
В каждом его слове, в каждом жесте чувствовался бывший командир. Не помню, какие говорил он слова, но, очевидно, слова были довольно внушительные, так как пришельцы ретировались немедленно. Впрочем, возможно, что на них подействовало имя нашего высокого заступника А. М. Горького, на которое сослался один из студистов.
Как бы то ни было, «прелестному старичку» предоставили право продолжать свой насильственно прерванный сон, каковым правом он не преминул моментально воспользоваться.
А Зощенко, выйдя из своей обычной тоскливой апатии, опять-таки к великому моему удивлению, заговорил, задыхаясь и хватаясь за сердце, о бессовестной черствости тех, кто в такое тяжелое время хотел под прикрытием мнимой заботы о Студии выгнать больного, бесприютного человека на улицу.
Это слово черствость запомнилось мне, так как в устах Зощенко оно было для меня неожиданным. Я и не предчувствовал, что через год, через два оно станет наиболее заметным, наиболее действенным словом многих его повестей и рассказов и что именно борьба с черствостью людских отношений станет в центре всего его творчества.
Вскоре он произнес это слово опять — уже по другому погоду, при других обстоятельствах.
Дело в том, что наша Студия, как уже догадался читатель, с первых же дней походила на вавилонскую башню. Каждый из ее руководителей говорил на своем языке. Каждый тянул в свою сторону: Шкловский — в свою, Замятин — в свою, Гумилев и Лозинский — в свою. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты: шкловитяне, гумилев-цы, замятинцы.
И все эти разнородные касты без конца сражались меж собой.
Больше всего споров вызывала тогда модная литературная ересь, чрезвычайно притягательная для многих студистов. Называлась она — формализм.
Многое в этой ереси казалось мне чуждым и даже враждебным. Но была в ней одна милая моему сердцу черта: внимание к форме литературных творений, которое по многим причинам было прежними критиками приглушено и ослаблено. Да и к самим создателям формального метода я не мог не питать симпатий — талантливые, молодые, широко образованные, они весело разрушали закостенелые догматы свирепствовавшей в те времена вульгарно-социологической школы.
Но нет таких литературных (и не только литературных) течений, которые не претворились бы в пошлость, едва только их адепты увидят в них абсолютную истину, догмат, освобождающий их от необходимости самостоятельно мыслить.
Была среди студистов девица, которая именно так — твердокаменно, по-сектантски — уверовала в схемы формального метода и на одном из студийных занятий прочитала доклад, где с туповатым упрямством прославляла любимую ересь.
— Мы не имеем ни малейшего права, — непререкаемо вещала она, — инкриминировать писателям какие бы то ни было идеи, сентименты, моральные задачи и прочее. Всякое произведение поэзии есть сумма стилистических приемов — и только. Литература развивается сама по себе, имманентно, вне всякой зависимости от общественной жизни, — и т. д.
Ко всем этим заученным тирадам мы уже успели привыкнуть, но Зощенко, чуть только она замолчала, встал и сказал неожиданно запальчивым голосом, какого мы у него никогда не слыхали, что все это «черствая чушь», «фармацевтика».
Странной показалась мне молодая горячность, с которой он, обычно такой безучастный и хмурый, выговаривал эти слова. Речь его не была окрашена ни иронией, ни юмором: чувствовалось, что здесь искренний гнев.
— Черствая чушь, — повторил он и долго не мог успокоиться, то вставал, то садился, то умолкал, то снова начинал говорить.
Докладчица слушала его с тем пренебрежительным видом, с каким самодовольные взрослые слушают лепет младенца.
Я давно забыл бы этот случай, если бы он не нашел отражения в моем рукописном альманахе «Чукоккала». Здесь на странице 398-й — записи обоих участников диспута. Откликаясь на обвинения в черствости, докладчица с иронией написала, что ее «черствое сердце оставляет человечному Корнею Ивановичу Чуковскому память о многознаменательном дне, когда чуковисты пошли походом на сторонников формального метода».
Слово человечный было написано, конечно, в насмешку, так как человечность казалась сектантке бессмысленным термином, не имеющим отношения к искусству.
Это-то и вызвало негодующую реплику Зощенко. Прочтя «античеловечные» строки, он на той же странице «Чукоккалы» обратился к докладчице с сердитым призывом:
«Поменьше литературной фармацевтики!
В «Чукоккале» это самый ранний автограф Михаила Михайловича.
Невнятная коротенькая строчка, но для меня насыщенная большим содержанием: неожиданный протест молодого писателя против «фармацевтического», «черствого» отношения к искусству, заявленный с темпераментной резкостью.
Эта строчка была написана Зощенко еще до того, как он написал свои книги. Теперь, когда его книги написаны и мы знаем, что основная их тема — борьба с удушливой черствостью бесчеловечного быта, эта его ранняя отповедь рьяной сектантке кажется мне более значительной, чем она могла показаться тогда, когда появилась в «Чукоккале». Дата обеих записей — 10 сентября 1919 года.
Незадолго до этого, кажется в августе, в Студию по моему приглашению пришел Александр Блок. Глуховатым, усталым, но все еще упоительным голосом он прочитал поэму «Возмездие» и прозаическое предисловие к ней. Потом, через несколько дней, пришел снова и прочел «Седое утро», «Соловьиный сад», «Скифов».
Чтение происходило под открытым небом на нашем студийном балконе.
Этого балкона уже нет. Широкий, с комнату средних размеров, он простирался над всем тротуаром Литейного, держась на чугунных столбах, испещренных восточным орнаментом. На нем свободно могло поместиться до двадцати человек.
Теперь, проходя мимо бывшего дома Мурузи, я всегда вспоминаю этот чудесный балкон, весь охваченный золотисто-сиреневой дымкой петроградского летнего воздуха, и на балконе понурого Блока с выражением смертельной усталости.
Студисты — и Слонимский, и Груздев, и Зощенко — слушали его благоговейно, но среди них были и такие, которые отнеслись к нему с явной враждебностью. Это тоже была особая секта, исповедующая пролеткультовский догмат о неприятии старой культуры. Они заранее решили, что Блок «несозвучен», и слушали его чтение, насупившись и демонстративно пожимая плечами. Их было пять или шесть человек, и они всегда держались вместе, как заговорщики с камнем за пазухой. Блок чувствовал их неприязнь. Она угнетала его…
Между тем Студия стала хиреть. Иные ушли на фронт, иные, не вынеся разрухи и голода, предпочли покинуть Петроград и переселиться на юг, а иным (тем самым, которые восстали против поэзии Блока) наскучили наши семинары и лекции. Талантами эти юнцы не блистали, даже в грамоте были не очень сильны и, по обычаю всех честолюбивых невежд, не столько жаждали учиться, сколько — повелевать и командовать… Как бы то ни было, жизнь Студии к осени замерла. Вова Познер, ее летописец и бард, изобразил ее гибель в стихах:
И дальше, через несколько строк: