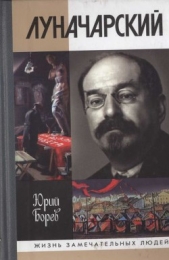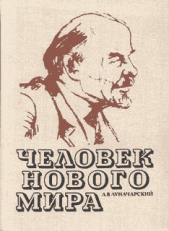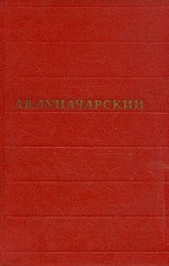Том 7. Эстетика, литературная критика
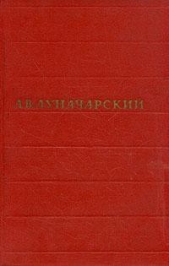
Том 7. Эстетика, литературная критика читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В седьмой и восьмой тома настоящего издания включены труды А. В. Луначарского, посвященные вопросам эстетики, литературоведению, истории литературной критики. Эти произведения в таком полном виде собираются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я познакомился с Ольминским в Женеве, куда я был вызван Владимиром Ильичем для участия в редакции газеты «Вперед», органа большевиков, лишившихся в то время своей «Искры» 2. Перед тем Ольминский выпустил несколько брошюрок под псевдонимом «Галерка» 3. Он выбрал такой псевдоним потому, что Мартов как-то презрительно назвал едких и несдержанных на слово публицистов, окружавших Ленина после раскола и создавших его штаб в журналистике, — галеркой. Ольминский с удовольствием подхватил эту презрительную кличку. В самом деле, что может быть более славного для пролетарского писателя, чем такая квалификация! Пролетарии и искренне преданные им идеологи никогда ведь не сидели в первых рядах партера или в ложах бенуара. Курьезно, что позднее в каких-то, кем-то напечатанных списках жандармского управления я нашел такую справку: «Галерка» — псевдоним Луначарского. Должен сказать, что эта жандармская заметка мне чрезвычайно польстила. Я был бы очень счастлив, если бы многие блестящие статьи и брошюры, подписанные этим памятным псевдонимом, действительно вышли из-под моего пера.
В то время Ольминский произвел на меня самое чарующее впечатление. На самом лице его была написана какая-то особенная доброта и ясность. И вместе с тем это был пламенно преданный пролетариату борец и, между прочим, всегда восхищенный поклонник Владимира Ильича, — поклонник-сотрудник, поклонник-товарищ, конечно. Я помню, с каким восхищением после первых заседаний нашей редакции Ольминский говорил мне: «Ну, у нас, кажется, обидчивых людей нет, будем работать по-товарищески», и как затем он запел настоящий дифирамб быстроте, сообразительности, точности мысли мощно выраставшего тогда вождя величайшей в мировой истории партии. Позднее Ольминский внес еще более заметный свет в историю нашей журналистики, когда стал одним из отцов нашей легальной питерской «Правды». Можно заслушаться тех рассказов (я однажды услышал их на торжестве 50-летия Владимира Ильича 4), которыми богат Ольминский, когда передает о внутренней жизни и судьбах этой изумительной газеты, поистине следующего этапа вслед за ленинской «Искрой», за промежуточными газетами «Вперед» и «Пролетарий» и за незаконченными краткосрочными легальными газетами 1905 года 5.
В собственной своей публицистической работе в эти ударные моменты и за все время литературного и революционного труда своего Ольминский-Галерка оставался всегда на высоте искрометного остроумия и подкупающего своей искренностью и вдумчивостью стиля. Для меня всегда казалось чрезвычайно знаменательным, что из всех писателей он больше всего ценил Щедрина. Пожалуй, только Пушкина ставил рядом с ним. Заветы классической чистоты языка, с одной стороны, и заветы забавного, легко принимающего эзоповские формы, но легко и внезапно раскрывающего свои полунамеки метода величайшего сатирика, с другой стороны. Ольминский в этом смысле был учеником наших классиков. Ему и книги в руки по огромной важности вопросу о том, как должны мы использовать оставшееся нам наследство, вырабатывая из себя самих и, быть может, вырабатывая из молодежи настоящих работников нашей художественной и художественно-публицистической литературы.
Книга «По вопросам литературы» представляет собою сборник статей, написанных в разные периоды. Тут есть и статьи 1911–1914 годов и 1891–1907 годов. Другие относятся к различным периодам жизни Ольминского. В качестве вступления самого автора в книге имеется любопытный этюд — «Как я стал литератором» и речь на Всероссийской конференции пролетарских писателей 6, — так сказать, начало и конец литературной линии Ольминского. Конец — разумеется, в смысле высказанного до сих пор, так как мы ждем от Ольминского еще дальнейшего литературного творчества.
В первом этюде Ольминский просто и забавно рассказывает о том, как он добился нынешнего своего мастерства в писательском деле. А он действительно добился этого мастерства. Вряд ли существует много публицистов из самых лучших, даже среди современников Ольминского, которые могли бы гордиться такой лаконичностью и ясностью. Вопрос о простоте слога, об экономии средств выражения, о точности мысли всегда особенно интересовал Ольминского, и в этом отношении сама книга может служить образцом такой простоты, ясности, а потому и художественности. Интересно для всякого молодого, вырабатывающегося писателя почерпнуть из небольшого этюда Ольминского убеждение в необходимости необыкновенно серьезной, суровой работы над собой, в необходимости уметь пользоваться образцами, данными великанами нашей литературы. Очень любопытна и речь, потому что, с одной стороны, утверждая вполне решительно пролетарскую литературу как особую классовую задачу, как особую эпоху в истории литературы. Ольминский в то же время ни на минуту не впадает в заблуждение, которое одно время было заметно в наших рядах, а именно в пренебрежительное отношение к прошлому литературы как к чему-то буржуазному, в стремление все сызнова построить из собственного пролетарского нутра.
Первая серия статей, содержащая в себе краткие, но необыкновенно содержательные этюды, вышедшие из-под пера Ольминского в 1911–1914 годах, во время редактирования им легальной «Правды», представляет собою огромный интерес. В эти годы Ольминский чувствует еще то «мародерское настроение», по выражению Воровского («мародеры на поле битвы после сражения») 7, которое наступило у значительной части интеллигенции и у ее литературных представителей после поражения революции 1905–1906 годов. На примере похода против Горького, осмелившегося заявить, что «Бесы» Достоевского, при всей их талантливости, есть черносотенное произведение 8, на примере сологубовских, быть может, бессознательных издевательств над революцией и революционерами, на примерах, взятых у Арцыбашева, у Куприна, у Винниченко, ярко и глубоко изображает Ольминский этот процесс интеллигентской реакции 9. И вместе с тем с какой чуткостью ко всеми захаянной Вербицкой с ее романом «Ключи счастья» Ольминский сумел, нисколько не обольщаясь слащавыми и фальшивыми формами этого романа, прозреть некоторый подъем, некоторое стремление к чему-то более светлому и высокому, чем окружавшая действительность, и в повальных увлечениях молодежи этим слабым, сейчас уже забытым романом, Ольминский увидел симптом роста новых плодотворных течений в этой среде 10.
Могу сказать не без гордости, что я был, пожалуй, единственным человеком, который, ничего не зная об этой статье Ольминского, в большом докладе — «„Ключи счастья“ как знамение времени» — в Женеве уже указывал на то, какая именно сторона в творчестве Вербицкой оказалась пленительной для нашей полуобразованной демократии больших городов, а вместе с тем для студенческой молодежи, для провинциальных читателей и особенно читательниц 11. В совершенном созвучии С Ольминским я указал, что при всей наивности форм Вербицкая, несомненно, является идеалисткой в положительном смысле этого слова и что именно жажда красивой, более прямой, более героической жизни заставила потянуться к ней читателя, сбитого с толку, может быть, очень художественными, но мрачными, лишенными всякого живого чувства произведениями корифеев тогдашней литературы.
Глубокий интерес представляют помещенные в следующей серии (на самом деле написанной раньше) статьи, которые посвящены Чехову 12. Ольминский великолепно указал на две основные черты творчества Чехова, которые делали его столь дорогим для людей его эпохи. Чехов был неопределенен, продуманно неопределенен, он хотел быть неопределенным, но хотел он этого потому, что не мог быть определенным. Он даже не особенно искал того «бога», в отсутствии которого он упрекал писателей своего времени. Напротив, он отверг одного бога за другим и остался при своем скептицизме. Поэтому он действительно похож на музыку, как говорит Ольминский 13, то есть под его образы можно подвести разное содержание, сделать из них разные выводы. Вследствие этого казалось, что он объективен, как сама жизнь, что он совершенно беспристрастный изобразитель действительности. Но на самом деле действительность очень определенна. Постичь действительность до глубины — это значит невольно натолкнуть читателя на совершенно определенные выводы. Не в том дело, будто бы так называемый тенденциозный писатель всегда присочиняет какие-то «направленства» к жизни, которую воспроизводит в своих сочинениях, а так называемый чистый художник, будто бы просто копирующий ее, — является верным ее зеркалом. Художник никогда не может быть фотографом. Чехов меньше всего был таковым. Все приемы его импрессионистского письма сразу ставят нас перед несомненным фактом: отражения жизни, которые дает Чехов, им выбраны, своеобразно преломлены, своеобразно переработаны, и только тогда получается элемент особого чеховского мирка.