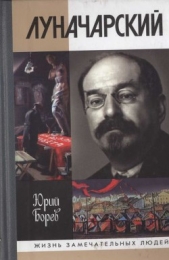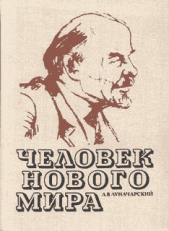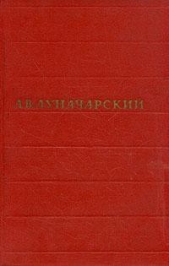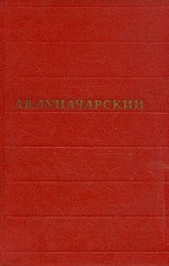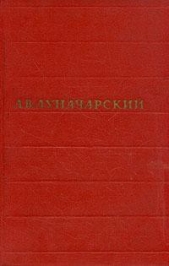Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Комментарии излишни.
В том и беда Андреева, что он, не ограничиваясь простым отрицанием, возводит его в квадрат и куб и превращает… в пошлость.
Но здоровый читатель сумеет вынести из Андреева хороший урок. Он примет то, что положительно в его критике, и отвергнет напыщенное мудрствование зафилософствовавшегося мещанина.
Критика должна помогать в этом. Хорошо бы, если бы она могла помочь самому Андрееву держать в узде свою критику, не позволять ей переходить в сверхкритику, где она становится подчас так… неумна.
VI. О «Царе-Голоде»
Только что мне удалось прочесть «Царь-Голод». Быть может, я буду более подробно говорить об этом произведении. Пока скажу лишь, что проблема революции поставлена Андреевым по-детски. На бунт голодных толкает стихийный властелин — Голод. Богатые, опираясь на военные машины, уничтожают толпы бунтовщиков и торжествуют. К этому прибавлена платоническая угроза, что «мертвые встанут».
Пьеса написана грубо. Но это скорее хорошо. В ней много недостатков, есть и достоинства, но ни на тех, ни на других я останавливаться не буду, кроме одного, главного — бесконечно упрощенного, мрачного, почти клеветнического изображения рабочего класса.
На фоне массы, забитой, голодной, задавленной машинами, ненавидящей их и поклоняющейся им, выступают такие три якобы типичных представителя рабочего класса:
«Первый рабочий, могучей фигурой своей и выражением крайней усталости, походит на Геркулеса Фарнезского. Ширина обнаженных плеч, груда мускулов, собравшихся на руках и на груди, говорят о необыкновенной, чрезмерной силе, которая уже давит и отягощает обладателя ее. И на огромном туловище — небольшая, слабо развитая голова с низким лбом и покорными глазами; и в том, как наклонена она вперед, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная, бычачья тупость. Обе руки рабочего устало лежат на рукояти огромного молота.
Второй рабочий — молодой, но уже истощенный, уже больной, уже кашляющий. Он смел — и робок; горд и скромен до красноты, до заикания. Начнет говорить, увлекаясь, фантазируя, грезя, — и вдруг смутится, улыбнется виноватой улыбкой. На земле он держится легко, как будто за спиной у него есть крылья; и, кашляя кровью, улыбается и смотрит на небо.
Третий рабочий — сухой, бесцветный старик, будто долго, всю жизнь, его мочили в кислотах, съедающих краски. Также бесцветен и голос его: а когда он говорит, кажется, будто говорят миллионы „бесцветных существ“…» 27
Вот вам три основные типа современного пролетария. Правдиво? Между бунтом рабочих и бунтом хулиганов Андреев усмотрел одну разницу: хулиганы несколько сознательнее.
Голодный бунт вроде описанного Гауптманом в «Ткачах» — вот предел мудрости Андреева. Повторяю: в драме есть недюжинные достоинства рядом с множеством слабостей (например, совершенно опереточная смерть, хотя автор хотел, чтобы она была ужасна, и т. п.). Но как общий замысел она убога: голодный расшибает лоб о пушку богатых. Вот и все. Интересно задуманная фигура протагониста не спасает. С такой убогой концепцией не подходят к революции. Это революция, отраженная в голове мещанина, пусть художника, но безнадежного мещанина.
Андреев и в этой драме довольно силен в критике буржуазии (хотя лучшая сцена, суд, есть символическая обработка толстовских тезисов «Воскресения»), но и тут, как всюду, он хотел «роковою рукою» вскрыть трагизм, безысходный, отчаянный трагизм положительного — революции и дал изображение и толкование революции, над которым поднялся теперь любой гимназист.
Пара замечаний еще. Хулиганы у Андреева делают дело вместе с рабочими, сопровождая революцию — разбоем. Это бессознательная ложь. Хулиганы или расстреливали рабочих в качестве гард-мобилей, или громили под знаменем монархии и религии, как наши черносотенцы. Там, где революция торжествовала, хулиганы трепетали. Во время господства Коммуны в Париже — преступлений почти не было. Затем: революционный народ у Андреева сжигает Национальную галерею. Этого никогда не было и не будет. Революционеры, пролетарии всегда охраняли музеи. Эти мелочи дополняют картину беспомощности Андреева перед лицом революции.
Именно упрощение и опошление трагичности ее, именно подмена ее голодным бунтом — губят символическое значение последнего произведения Андреева.
Мысль Андреева всегда будет слаба в своих титанических потугах, ибо он мещанин. Он дошел до нигилизма, до всеотрицания. Боже мой, пустое и всеобщее отрицание есть только утверждение, ибо во тьме, в которую Андреев хочет погрузить мир, все кошки становятся серы. Чтобы тьма была тьмой, надо противопоставить ей свет. Андреев боится его. Другие ищут его и не могут найти. Видали даже, но душа их мещанская не приемлет его, заставляет их искажать его, превращать для себя в полусвет.
Свет же истинный есть идеология рабочего класса, это свет истинный — и тьма не объемлет его.
Леонид Андреев. Социальная характеристика *
Леонид Андреев человек больной. Об этом не может быть двух мнений. Он страдал запоем, с детства тянется ряд покушений на самоубийство. Резкие переходы от истерической веселости — довольно редкой, впрочем, — к мрачному и подавленному состоянию отмечаются всеми, кто знал Андреева. Это, несомненно, фигура психопатическая.
Но если даже встать на чисто индивидуалистическую точку зрения, которая преобладает в буржуазной критике, то и тогда из констатирования болезненности писателя отнюдь не вытекает его малоценность. Я говорю о ценности чисто общественной. Болезнь, вообще говоря, может привести к некоторому ясновидению. Достоевский бросает мысль, что болезнь, быть может, утончает какие-то особенные способности человека, так сказать, заглушённые в нормальной жизни его здоровьем, и открывает ему миры иные, закупоренные для нормального человека именно его нормальными жизнеотправлениями 1. Мы имеем все основания начисто отрицать всякие «иные миры» и считать за остаток дикарских воззрений представление о росте души за счет аскетически изнуряемого тела. Но и современный научный подход к жизни сознания подсказывает нам, что нарушение равновесия в нервно-мозговой системе часто до необыкновенной степени обостряет те или другие функции. Совершенно точно установлено необыкновенное изощрение зрения и слуха при известных формах истерии, проявление чудовищной силы памяти, огромного воображения и т. д. за счет другого рода работы организма, которая в то же время является притуплённой, дезорганизованной, отмирающей. Больной писатель представляет собою, конечно, искалеченный аппарат наблюдения, переработки и выражения определенного социального явления. Но ведь и всякая индивидуальность потому индивидуальностью и называется, что она в известном отношении оригинальна. Если бы мы представили себе абсолютно нормального человека в абсолютно нормальной обстановке, то он не мог бы быть не только художником, но и вообще сказать что-нибудь интересное другим таким же нормальным особям. Человеческое общество богато необычайными, иногда контрастирующими различиями между отдельными личностями, и сам по себе художник является вообще уклонением от нормы, ибо художник, вполне удовлетворяющий нашим требованиям, должен обладать необычайно острой наблюдательностью, умением свои наблюдения необычайно легко и убедительно концентрировать во внутренние образы и, наконец, умением с максимальной выразительностью передавать эти образы окружающим.
Совершая свои наблюдения, художник апперципирует лишь некоторые стороны деятельности, а другие опускает. Это делает всякий художник. С нашей социальной точки зрения определителями круга наблюдений и, так сказать, окраски, в которой они доходят до художника, являются классовые предпосылки творчества данного художника, но, во всяком случае, в этой субъективной, своеобразной стилизации наблюдаемого не может быть никакого сомнения, и у художника не только повышена сама наблюдательность, но резче, чем у других, отмечена своеобразная печать, которую накладывает художник на каждый входящий в его сознание образ, так сказать, при самых дверях своего восприятия и своей памяти.