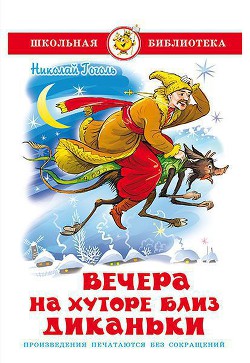Гоголь в русской критике

Гоголь в русской критике читать книгу онлайн
В сборник статей русской классической критики, посвященных творчеству Н. В. Гоголя, вошли статьи Пушкина, Белинского, Некрасова, Добролюбова, Тургенева и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одною из самых странных особенностей, которыми поразила «Переписка с друзьями» и предисловие ко второму изданию первого тома «Мертвых душ», была просьба, с которою обращался Гоголь к своим читателям: присылать ему замечания о русских нравах. Это желание казалось так странно, что многие сомневались в его искренности. Но после издания писем она не подлежит сомнению: всех своих друзей Гоголь заклинает доставлять ему замечания о русской жизни. Иногда предмет требований странен до невероятности; так, например, одну даму, жившую в провинции, он просит составить для него записку о раскольниках той губернии, совершенно забывая, что дама эта совершенно не имеет понятия о деле, которое на нее возлагается. И мы ошиблись бы, если бы приписали только последнему периоду жизни Гоголя требование материалов для своих сочинений. Эта привычка была у него с самого начала и только развилась впоследствии. Вот, например, отрывок из письма к матери, посланного еще в 1829 г., при самом начале литературной карьеры Гоголя, когда он приготовлял «Вечера на хуторе»:
1829 г. апреля 30.
Теперь, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу в свою очередь сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов: я думаю, Анна Матвеевна или. Агафия Матвеевна много знают кое-что из давних годов. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей. Об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут, прозвания не помню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, повидимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами. Множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и пр., и пр., и пр. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно. На этот случай и чтобы вам не было тягостно, великодушная, добрая моя маменька, советую иметь корреспондентов в разных местах нашего повета. Александра Федоровна, которой сметливости и тонким замечаниям я всегда удивлялся, может и в этом случае оказать вам очень большую помощь (том V, стр. 81).
В этом отрывке тот же патетический тон, как и в просьбах о «Мертвых душах», будто бы дело идет о предмете первой необходимости, будто без присылки замечаний от матери Гоголь не в состоянии описывать малорусскую жизнь. Та же самая странность и в том, что сведения, требуемые Гоголем, кажутся иногда излишними не только человеку, проведшему все детство в Малороссии, но прожившему хотя неделю в этой стране. Например, неужели Гоголь мог не знать «полного наряда сельского дьячка»? Наконец та же самая обширность обязанностей, налагаемых Гоголем: он просит мать набрать особенных корреспондентов по разным местам для доставления ему сведений. Разница только в одном: пока Гоголь думает, что достоинство его сочинений важно только для людей, близких к нему, он обращается с просьбою только к людям близким; потом он просит без различия всех своих читателей, — но зато ведь он уже полагает, что достоинство его сочинений важно для каждого читателя.
Странною чертою в «Переписке с друзьями» казалось уверение, что нужно только укрепиться в вере, и тогда легко будет переносить самые прискорбные утраты. Это было принято даже за лицемерие, по пословице «чужую беду по пальцам разведу». Но вот что пишет Гоголь на семнадцатом году жизни, получив известие о смерти отца:
1825 г. апреля 23 дня.
Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однакож не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но бог удержал меня от сего; и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко всевышнему (том V, стр. 19).
Затем Гоголь продолжает рассуждать, что «благословляет священную веру, в которой находит утоление своей горести», так что теперь он спокоен. Неужели в самом деле не был опечален шестнадцатилетний мальчик смертию отца? Странна казалась в «Переписке» манера утверждать, что самые тяжелые потери надобно считать за радостные события, потому что ими очищается душа и доказывается благоволение промысла. Но что это не было притворством, а действительным убеждением Гоголя, видим из письма к матери, по случаю жестокой горести, поразившей одного из ближайших друзей Гоголя:
1838 г. мая 16.
Я получил ваше письмо и уже хотел было отвечать на него, как вдруг мне принесли еще одно ваше письмо, в котором вы извещаете о смерти Татьяны Ивановны. Мне было тоже прискорбно об этом слышать. Мне еще более было жаль, что мой добрый Данилевский не со мною в это время, чтобы я мог сколько-нибудь облегчить участием его потерю и утешить его в ней. Я, однако ж, написал ему об этом в Париж, где он теперь находится и где, может быть, уже получил это печальное известие без меня. Частые потери, наконец, так приучают сердце и ум к мысли о смерти, что она, наконец, не имеет для нас ничего ужасного. Истинный христианин радуется смерти близкого своему сердцу. Он, правда, разлучается с ним, он не видит уже его, но он утешен мыслию, что друг его уже вкушает блаженство, уже бросил все горести, уже ничто не смущает его; и в этом-то состоит глубокое самоотвержение, какое может только быть и какое может только внушить одна христианская религия (том V, стр. 325).
В письме к матери о постороннем человеке Гоголю не было нужды надевать маску; поэтому можно верить искренности его мления, когда он в письме к самому А. С. Данилевскому толкует, что «может быть, горесть, постигшая тебя, есть перелом, который высшие силы почли для тебя нужным, и эти исполненные сильной горести слезы были для оживления твоей души». А надобно заметить, что эти письма относятся к 1838 году, когда Гоголь еще не предавался аскетическому направлению.
Чертою лицемерной гордости, под маскою смирения, казались рассуждения Гоголя о том, что в каждом событии своей жизни видит он руку промысла; но вот отрывок из письма его к матери, оно нимало не уступит «Переписке с друзьями», хотя относится еще к 1829 г.:
1829 г. июля 24.
Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей; мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего; но как ужасно это наказание. Безумный! я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один бог вдвинул в меня, претворив меня в жажду, ненасытимую бездейственной рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтоб я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута — богатый запас опытов и знаний; но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе, — это убийственно!
Несмотря на это все, я решился, в угодность вам больше, служить здесь во что бы то ни стало; но богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть. Не явный ли был здесь надо мною промысл божий? Не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами, в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец… какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать… Маменька, дражайшая маменька! я знаю, вы одни истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать… Вы знаете, что я был одарен твердостию, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее… нет, не назову ее… она слишком высока для всякого, не только для меня… Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронизывающие душу; но их сияния жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда!.. правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была… Я по крайней мере не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно-единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее, с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шаткосозданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений… Но, ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока (том V, стр. 84–86).