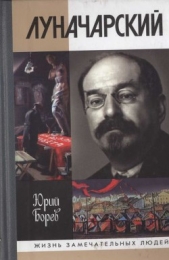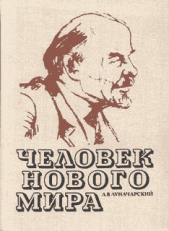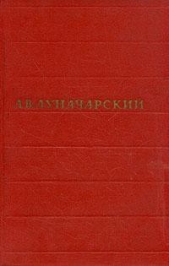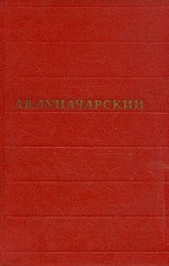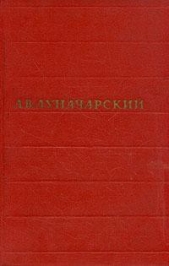Том 1. Русская литература

Том 1. Русская литература читать книгу онлайн
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
Первый том объединяет статьи, рецензии, речи, посвященные русской литературе конца XVIII — начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самые лучшие из интеллигентов продолжают биться головой о стену, ища революционных путей, и в конце концов обретают марксизм. Самые худшие опускаются в обывательщину, иногда приправленную нейтральным эстетизмом. Посредине остается большая толща, не могущая подняться до марксизма, не желающая предаваться эпигонскому, явно бессильному народничеству, но не желающая также погружаться в тину обывательщины. Такая интеллигенция тоскует.
Тоска интеллигенции 80-х и отчасти 90-х годов выражает не только настроение интеллигенции как группы, эта тоска выражает ведь собою бездорожье для всех оппозиционных элементов общества, даже и для таких, которые оппозиции своей не сознавали, но в которых она объективно жила. В этом смысле можно сказать, что пессимисты 80-х и 90-х годов выражают собою настроение чрезвычайно широких кругов.
Среди этих пессимистов имеются, конечно, пессимисты абсолютно горькие, которые иногда доходили до самоубийства, до сумасшествия, до беспробудного пьянства, иногда даже до ренегатства и морального падения. Были и такие, которые своему пессимизму искали какой-нибудь исход.
Если мы возьмем Чайковского и людей его типа, которых было, вероятно, не мало, то, кратко анализируя их душевное состояние, можно сказать о них так. Они, во-первых, потеряли связь с обществом, ввиду распада революционного настроения интеллигенции, они оказались совершенно изолированными индивидами, на окружающий мир они смотрели глазами такой уединенной личности. Это почти не давало им возможности осознать, что основная причина их скорби есть самодержавие, нищета России, ее некультурная дикость, забитость в ней всякой личности и т. д. Наоборот, вопрос о бренности всего бытия, о кошмарности смерти, как конца всему, вставал перед такими личностями во всем объеме.
В самом деле, всякая человеческая личность не может не поставить перед собою вопроса о смерти, если она достигла известного уровня сознательности. При этом личность социальная легко разрешает вопрос о смерти. Не напрасно же Спиноза еще в XVII веке писал: «Сознательный человек ни о чем не думает меньше, чем о смерти» 9. Но это потому, что тот, кого Спиноза называл сознательным человеком, расценивает явления с точки зрения всего человеческого вида, всего космоса, чувствуя себя с ним связанным.
Чайковский, как и люди, лишенные социальной связи (в данном случае — благодаря разгрому общественного движения самодержавием), ничем не мог заслониться от смерти, ничем не мог утешиться. Таким образом, пессимизм Чайковского, являвшийся (как и для десятков тысяч подобных ему, но менее талантливых) результатом победы самодержавия над общественностью, приобрел характер мировой скорби. Это же давало и некоторые пути к выходу. Против общественного зла самодержавия можно было только революционно бороться, и пути такой борьбы оказались отрезанными. А против мировой скорби? Конечно, против несовершенства мира и прежде всего такой пакости, как личная смерть, бороться никак нельзя, поэтому надо к ней приспособляться. Существуют два метода приспособления к идее смерти: мистицизм и реалистический метод; худшая часть интеллигенции шла по направлению мистицизма (даже Толстой, о котором должна быть, однако, особая речь). Чайковский к этой худшей части не принадлежал. Он хотел и старался иногда натаскивать себя на православный лад и написал даже превосходную обедню преждеосвященных даров 10, но заставить себя верить не мог. И большая часть его музыкальных произведений есть борьба со смертью реалистическим путем.
А реалистических путей борьбы со смертью есть два (кроме, конечно, вышеуказанного и единственно победоносного, социального пути): можно забыть смерть за праздником жизни, иг можно превратить свой ужас перед смертью в красивую печаль.
Забыть ужас смерти за пиром — это, конечно, разрешение самое вульгарное, но к тому же еще и в высокой степени непрочное. Правда, наслаждения жизнью как бы даже увеличиваются и приобретают особую пикантность, когда они приправлены страхом смерти. Поэтому римляне и ставили свой скелет в качестве напоминания о смерти на пирах, поэтому так и любили свое «лови бегущий день». Поэтому в эпоху Возрождения утонченные пиры изверившейся в христианстве итальянской аристократии сопровождались подобными же песнями Лоренцо и других. Но, тем не менее, из этого же следует, что хочешь или не хочешь вспоминать о смерти, а просто отвертеться от нее чревоугодием, винопитием, сладострастием не удастся.
Более прочным способом является способ эстетический. Он давно известен человечеству, создавшему бесчисленное количество траурных маршей, траурных песен, всякого рода заупокойных церемоний, разного рода прекрасных траурных одежд, мавзолеев, гробниц, целый ряд глубоко пессимистических философских систем и т. д. и т. п.
Иному придет в голову, что вряд ли можно утешиться от страха смерти сочинением прекрасных песен на тему о таком страхе. Но этим человек выказывает только свое понимание процесса так называемой сублимации. Сублимировать какое-нибудь неприятное ощущение, какое-нибудь чувство недостатка в мечтах и грезах, разрешить его в гармонию, в сказочное творчество, — это чрезвычайно обычный прием всего человечества, на всех ступенях его развития, у всех народов.
Как же поступал Чайковский? Он пользовался обоими реалистическими методами. Притом я хочу говорить не о его личной жизни, — это дело сравнительно мало известное, и меня сейчас не касается, — а о самой его музыке. В его музыке есть очень много прославления жизни. Однако Чайковский прославляет жизнь всегда через какой-то грустный флер. Музыка Чайковского есть в высшей степени изящный пир человеческих чувств с постоянным memento mori [40].
Я пишу сейчас не о Чайковском, а о Чехове, и поэтому сказанного достаточно (некоторые подробности в моей специальной небольшой статье о Чайковском 11). Теперь проведем некоторую параллель между Чеховым и Чайковским.
Чехов тоже принадлежал к той же самой части русской интеллигенции, то есть он не был достаточно туп и фанатичен, чтобы идти за волной выветрившегося народничества, он не был. достаточно остер и мужественен, чтобы найти марксистские пути, он не был так пошл и зауряден, чтобы найти исход в хрюкающем обывательстве и в простом подчинении действительности. Он был настроен жгуче протестантски по отношению к своему кошмарному времени. Но дальше сходство с Чайковским и разница с ним переплетаются. Чайковский, как я уже сказал, был совершенным индивидуалистом, он жизнь мало наблюдал. Его интересовала природа так называемых вечных человеческих эмоций (любовь, надежда и т. д.) и его собственные субъективные переживания. Чехов не такой. Чехов не является членом какой-нибудь партии, какого-нибудь коллектива, в этом смысле он — индивидуалист, но у него зоркий глаз ко всему человеческому, притом конкретно человеческому. Он великолепно подмечает все реалистические черты окружающего быта. Он дает поразительный анализ крестьянства, мелкого мещанства, интеллигенции всех типов, чиновничества и т. д.; нет, пожалуй, ни одного класса, ни одной социальной группы, которую Чехов скорбно или юмористически не отразил бы в волшебном зеркале своего искусства.
На первый взгляд может казаться при этом, что он отражает совершенно объективно, что он только Антоша Чехонте с очень бойким карандашом, который зарисовывает без всякой задней мысли все, чему свидетелем бог его поставил 12. Однако это отнюдь не так. Чехов чутьем понимает, что силу искусство приобретает особенную, когда оно имеет все внешние аллюры объективности: будто не писатель пишет, а сама жизнь вам себя показывает. Но искусство никогда не есть фотография и тем менее безразличная фотография. Искусство выбирает свой материал, да еще и преображает его. Чехов часто делал вид, что преображает свой материал только в направлении наиболее художественной оформленности, на деле же он неизменно проводил определенные тенденции. Таким образом, Чехов, в сущности говоря, прекрасно понимал, что несет некоторое общественное служение, чувствовал себя через глаза свои, через перо свое крепко связанным со своим временем и в этом смысле был человеком общественным.