Статьи о русской литературе (сборник)
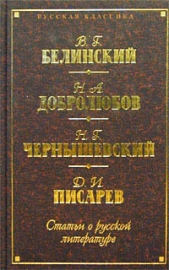
Статьи о русской литературе (сборник) читать книгу онлайн
Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века. В ней собраны самые известные критические статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе, Толстом, Чехове и Горьком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первая и основная особенность лермонтовского гения – страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем я, страшная сила личного чувства. Не ищите у Лермонтова той прямой открытости всему задушевному, которая так чарует в поэзии Пушкина. Пушкин когда и о себе говорит, то как будто о другом; Лермонтов когда и о другом говорит, то чувствуется, что его мысль и из бесконечной дали стремится вернуться к себе, в глубине занята собою, обращается на себя. Нет надобности приводить этому примеры из произведений Лермонтова, потому что из них немного можно было бы найти таких, где бы этого не было. Ни у одного из русских поэтов нет такой силы личного сочувствия, как у Лермонтова. На Западе это не было бы отличительною чертою. Там не меньшую силу субъективности можно найти у Байрона, пожалуй, у Гейне, у Мюссэ. У наших же, где эта черта особенно ярко выражена, она есть подражание. Отличие же Лермонтова здесь в том, что он не был подражателем Байрона, а его младшим братом, и не из книг, а разве из общего происхождения получил это западное наследие, с которым ему тесно было в безличной русской среде. И не одною позой или праздной фантазией были чувства, выраженные им в раннем юношеском стихотворении —»Зачем я не птица, не ворон степной»:
Сильнейшее развитие личного начала есть условие для наибольшей сознательности жизненного содержания, но этим не дается само это содержание жизни, и при его отсутствии сильное я остается пустым. Оставаться совершенно пустым колоссальное я Лермонтова не могло, потому что он был поэт божией милостью, и, следовательно, все им переживаемое превращалось в создания поэзии, давая новую пищу его я. А самым главным в этом жизненном материале лермонтовской поэзии, без сомнения, была личная любовь. Но любовные мотивы, решительно преобладавшие в произведениях Лермонтова, как видно из них же самих, лишь отчасти занимали личное самочувствие поэта, притупляя остроту его эгоизма, смягчая его жестокость, но не наполняя всецело и не покрывая его я. Во всех любовных темах Лермонтова главный интерес принадлежит не любви и не любимому, а любящему я, – во всех его любовных произведениях остается нерастворенный осадок торжествующего, хотя бы и бессознательного, эгоизма. Я не говорю о тех только произведениях, где, как в «Демоне» и «Герое нашего времени», окончательное торжество эгоизма над неудачною попыткой любви есть намеренная тема. Но это торжество эгоизма чувствуется и там, где оно не имеется в виду, – чувствуется, что настоящая важность принадлежит здесь не любви и не тому, что она делает из поэта, а тому, что он из нее делает, как он к ней относится. Когда огромный глетчер освещается солнцем, то является, говорят, зрелище восхитительное.
Новая эта красота происходит не оттого, чтобы солнце делало что-нибудь новое из глетчера, – оно ведь его и растопить не может, – а только оттого, что глетчер, оставаясь неизменно самим собою, делает из солнечных лучей, различным образом отражая и преломляя их своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть лермонтовских любовных стихов, – прелесть оптическая, прелесть миража. Заметьте, что в этих произведениях почти никогда не выражается любовь в настоящем, в тот момент, когда она захватывает душу и наполняет жизнь. У Лермонтова она уже прошла, не владеет сердцем, и мы видим только чарующую игру воспоминания и воображения.
Или другое:
И там, где глагол любить является в настоящем времени, он служит только поводом для меланхолической рефлексии:
В одном чудесном стихотворении воображение поэта, обыкновенно занятое памятью прошлого, играет с возможностью будущей любви:
Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началом жизненного наполнения, что он любил главным образом лишь собственное любовное состояние, и понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь рамкой, а не содержанием его я, которое оставалось одиноким и пустым. Это одиночество и пустынность напряженной и в себе сосредоточенной личной силы, не находящей себе достаточного удовлетворяющего ее применения, есть первая основная черта лермонтовской поэзии и жизни.
Вторая, тоже от западных его родичей унаследованная черта, – быть может, видоизмененный остаток шотландского двойного зрения – способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений.
Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависимости от первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова в себе давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сеть внешней причинности и проникать в другую, более глубокую связь существующего, – это была способность пророческая; и если Лермонтов не был ни пророком в настоящем смысле этого слова, ни таким прорицателем, как его предок Фома Рифмач, то лишь потому, что он не давал этой своей способности никакого объективного применения. Он не был занят ни мировыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своих ближних, а единственно только своею собственной судьбой, – и тут он, конечно, был более пророк, чем кто-либо из поэтов. Далее я приведу несколько примеров того, как ясна была для Лермонтова его судьба, а теперь укажу лишь на одно удивительное стихотворение, в котором особенно ярко выступает своеобразная способность Лермонтова ко второму зрению, а именно знаменитое стихотворение «Сон». В нем необходимо, конечно, различать действительный факт, его вызвавший, и то, что прибавлено поэтом при передаче этого факта в стройной стихотворной форме, причем Лермонтов обыкновенно обнаруживал излишнюю уступчивость требованиям рифмы, но главное в этом стихотворении не могло быть придумано, так как оно оказывается «с подлинным верно». За несколько месяцев до роковой дуэли Лермонтов видел себя неподвижно лежащим на песке среди скал в горах Кавказа, с глубокою раной от пули в груди, и видящим в сонном видении близкую его сердцу, но отделенную тысячами верст женщину, видящую в сомнамбулическом состоянии его труп в той долине. – Тут из одного сна выходит, по крайней мере, три: 1) сон здорового Лермонтова, который видел себя самого смертельно раненным, – дело сравнительно обыкновенное, хотя, во всяком случае, это был сон в существенных чертах своих вещий, потому что через несколько месяцев после того, как это стихотворение было записано в тетради Лермонтова, поэт был действительно глубоко ранен пулею в грудь, действительно лежал на песке с открытою раной, и действительно уступы скал теснилися кругом. 2) Но, видя умирающего Лермонтова, здоровый Лермонтов видел вместе с тем и то, что снится умирающему Лермонтову:

























