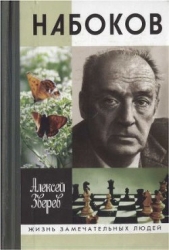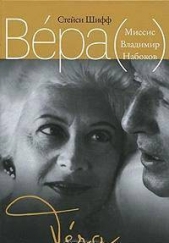Владимир Набоков: pro et contra. Том 1

Владимир Набоков: pro et contra. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, в «традиционной» группе его русских романов («Машенька», «Подвиг», «Дар») существует явная связь с автобиографическим материалом, в то время как во второй группе («Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Камера обскура», «Отчаяние»), напротив, тематическо-фабульные уровни романа говорят о персонажах и ситуациях, которые подчеркнуто условны и сильно отличаются от узнаваемо автобиографического опыта. В них персонажи на самом деле деперсонализируются, в то время как авторское «Я» играет все более важную роль, причем это роль творца, демиурга, а не участника или свидетеля событий. Автор таким образом предстает перед читателями субъектом обнаженной литературной конструкции. Именно из-за деперсонализации — вплоть до схематичности актанциального уровня — романы этого уровня могут быть восприняты и как своеобразные «параболические романы».
Однако, если рассмотреть приемы, которыми пользовался автор в обеих группах романов, мы заметим, что «реалистические мотивировки», будучи особенностью миметического типа литературы, появляются и во второй группе романов, то же самое относится и к чувственно коципированной описательности. В набоковских романах реалистические мотивировки выполняют функцию повышения степени правдоподобности повествования, правдоподобности, которая, однако, на другом уровне оспаривается. В частности, реалистические мотивировки проводятся параллельно с «ложными» и «художественными» мотивировками, поэтому эти романы возможно читать на нескольких уровнях. В некоторых из них игра мотивировками или, говоря общими семиотическими терминами, игра параллельными эстетическими кодами, особенно подчеркнута и образует доминанту структуры. Так, например, в романах «Камера обскура» и «Отчаяние» коды взаимно опровергаются и от питателя зависит, на котором из них он остановится. Упомянутая чувственность не только создает эффект жизненной правдоподобности, иллюзию «стереоскопичности» или «trompe l'oeil», но и подчеркивает остраненность творческого восприятия.
И наоборот. Если внимательно читать первую группу якобы жизненно убедительных, основанных на личном опыте, романов («вымышленные автобиографии»), мы заметим, что и в них все-таки существуют приемы, с помощью которых автор подчеркивает факт условности, вымышленности художественного текста.
Так, уже в первом романе — «Машенька» (1926) — существует прием, который мог бы быть назван «отражением в миниатюрном выпуклом зеркале». Время действия романа (первый план) длится неделю, основное место действия — эмигрантский пансион в Берлине. Второй же план включает длительный пространственно-временной ряд, относящийся ко времени молодости главного героя в предреволюционной России, гражданской войны и крымской эвакуации. Ряд исторических лет и большое географическое пространство темпорально и топологически сводятся на меньший сегмент (что мотивировано способностью главного героя к поэтической эвокации). Это конструктивное начало повествования отражено в отрывке, где повествователь описывает коридор пансиона с шестью дверьми. На дверях — номера, а на самом деле — вырванные из старого календаря листики за первую неделю апреля (неизвестного года). В дальнейшем повествователь заботится о том, чтобы известить читателя о дне недели, в течение которого развиваются события. А время действия в романе (и время повествования) истекает именно тогда, когда заканчивается первая неделя апреля — т. е. кончаются все существующие листики календаря. Таким образом, этим приемом (который в миниатюре отражает темпорально-топологическую организацию романа) имплицитный автор включил читателя в творческую игру, а вместе с тем оспорил предварительно созданный эффект достоверности и миметичности самого романа.
Подобно этому, в романе «Подвиг», также одном из ранних и «автобиографических», (замысел и первый вариант появились в то же время, что и замысел «Машеньки»), иллюзия миметичности ставится под вопрос похожим приемом, т. е. опять речь идет о «миниатюрном выпуклом зеркале». События из жизни Мартына Эдельвейса обрамлены мотивом пейзажа (акварель, которая висела на стене детской комнаты Мартына). В истории, которую Мартыну читала мать, какому-то мальчику удалось войти в картину. И действительно, пейзаж, который описывает повествователь перед самым концом романа, полностью похож на акварель из детской комнаты Мартына. В конце романа Мартын пытается нелегально вернуться в Россию через советскую границу — и на самом деле делает то же, что и мальчик из той истории. Вся его «авантюристическая» жизнь была, таким образом, попыткой реализации детских сказок. Кроме того, рамки романа отражены в уменьшенном виде в способе, которым очерчен первый любовный эпизод в жизни Мартына посредством ссылки на начальную оптическую визуальную иллюзию и последующее прозрение с помощью иллюстрации в книге приключенческого чтива для мальчиков. В обоих романах прием «выпуклого зеркала» можно определить и как зародыш будущей — богатой разнообразными формами и развитой — орнаментальности в прозе Набокова.
В «Даре», последнем русском романе Набокова и третьем из ряда «вымышленных автобиографий», существует уже целый ряд разработанных приемов, которые оспаривают начало достоверности и миметичности текста. Здесь налицо и упоминавшийся прием «миниатюрного выпуклого зеркала» (четвертая глава романа обрамлена началом и концом сонета, посвященного Чернышевскому, что выражает принцип, по которому поставлен в рамки весь роман, причем рамки здесь — метатекстуальное кольцо). Роман «Дар», по сути дела, тематизирует процесс собственно литературного оформления, включает читателя в творческую лабораторию главного героя — alter ego писателя Набокова. Игра с «проблемой авторства» романа и игривое варьирование мотивов alter ego (читатель задает себе вопрос, «кто чей автор» и «кто чей alter ego») также косвенно отражают конструктивные начала романа. По замыслу, над романом, который пишет персонаж Годунов-Чердынцев, доминирует текст романа «Дар», причем читателю предоставляется возможность обнаружить еще более доминантный текст — и так до бесконечности. Игра с отражениями и раздвоениями в зеркале — здесь уже часть орнаментальной поэтики, которую можем назвать «поэтикой матрешек». В «Даре» используется хорошо разработанный репертуар приемов, выполняющих функцию подчеркивания обманчивости иллюзии (разветвленная орнаментальность, ироническая и игровая позиция автора по отношению к читателю, богатая метапоэтическая система референций).
С другой стороны, именно в «Даре» полностью реализован эффект жизненной полноты и убедительности. Этот эффект проявляется ввиду исключительной чувственной внушительности, «стереоскопичности» дескриптивного уровня, а также ввиду возможности частичного перекрывания или даже отождествления категорий: писатель — автор — повествователь — герой, т. е. использования возможностей, заключенных в такой, обычно жизненно убедительной повествовательной позиции.
Этот эффект «Дара» в действительности достигнут путем стилистического усовершенствования именно той дескриптивности, которая в «Машеньке» была связана с импрессионистской манерой Чехова и Бунина, но после «Подвига», уже творчески обогащенная литературным примером лирического остранения у Олеши, развивалась в целом ряде романов Сирина, предшествовавших «Дару». С другой стороны, биографии Ганина («Машенька») и Эдельвейса («Подвиг») дают возможность воспринять их и как биографии будущих писателей. Годунов-Чердынцев уже является будущим писателем (мы намеренно используем этот парадокс, поскольку он — часть концепции текста романа), поэтому остранение и поэтичность его восприятия действительности становятся частью структуры романа.
Согласно этому, мы вправе утверждать, что и ранние романы Набокова обладают аспектом, который свидетельствует о набоковских поисках утонченной прозы, которая, хотя и демонстирует свою способность к достижению высокого уровня жизненной полноты и миметической убедительности, этот уровень сознательно оспаривает тем, что подчеркивает свою связанность с идеей, столь актуальной для литературы XX века — а именно, что всякое истинное произведение искусства в действительности говорит о себе самом. В то же время нужно отметить, что они отличаются от более поздних романов (даже и тех, которые по идее обнаженно искусственны, как, например, «Отчаяние» и «Приглашение на казнь») не только еще не разработанной системой автореференций, но и не усовершенствованным стилистическим аспектом в реализации «стереоскопичности» как наивысшей формы миметической описательности.