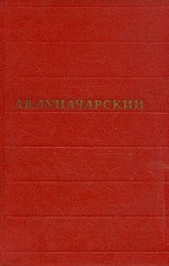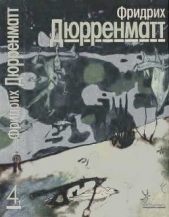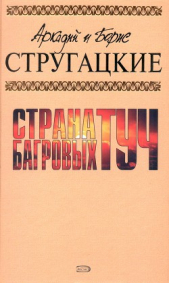Том 2. Советская литература
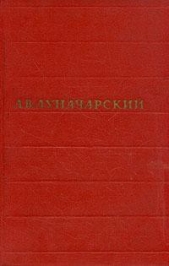
Том 2. Советская литература читать книгу онлайн
Во второй том вошли статьи, доклады, речи Луначарского о советской литературе.
Статьи эти не однажды переиздавались, входили в различные сборники. Сравнительно меньше известны сегодняшнему читателю его многочисленные статьи о советской литературе, так как в большей своей части они долгое время оставались затерянными в старых журналах, газетах, книгах. Между тем Луначарский много внимания уделял литературной современности и играл видную роль в развитии советской литературы не только как авторитетный критик и теоретик, участник всех основных литературных споров и дискуссий, но и как первый нарком просвещения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кроме того, Горький, заступаясь, клюющих Молчанова воробьев разогнал палкой. Кое-кого, может быть, при этом зацепил. А как я уже сказал, авербаховцы необычайно чутки ко всякому тумаку, и, очевидно, от имени их всех Авербах разразился филиппикой против Горького и в этой статье опять-таки не сосредоточил свое внимание на сущности вопроса. Это было бы еще ничего, но он как будто бы стремится наговорить Горькому кусательных и язвительных слов. А ведь это были дни торжественной встречи нашим пролетариатом своего писателя. Чуть не половина рабочей Москвы вывалила на вокзал, начался ряд трогательных дней и часов, в которые многие и многие не могли удержаться от слез, а мы все люди суровые. И как же хочет Авербах, чтобы против него не сложилось самое неблагоприятное общественное мнение?
Горький разогнал воробьев, а воробьи обернулись против него и в ответ на замечание: будьте лучшими товарищами и помогите, а, не клюйте, — воробьи, так сказать, самым запальчивым образом обчирикали самого Горького. Но воробьи эти разумные, воробьи эти образованные, воробьи эти товарищи наши, часть того огромного коллектива, который с нежностью прижимал к своей груди столь долго оторванного от нее сына своего и певца. Нехорошо!
Пишем мы все это (а я пишу здесь не только от своего имени) не потому, что хотим утешить Горького в его обиде. Горький ничуть не обиделся. Я даже не знаю, читал ли он статью Авербаха. Не такой у Горького рост, чтобы ему обижаться, и не потому мы пишем это, что хотим извиниться за некоторый беспорядок во время приема, пишем мы это потому, чтобы поставить вещи на свое место и дать маленький урок Авербаху. Молодости присуща известная дерзновенность быть таким «непочтительным Коронатом» 9, я-де никому не уважу, меня-де никаким авторитетом не запугаешь, но на это можно ответить старым четверостишием, в котором говорится:
Отсутствие «пиетета», которым, по-видимому, склонны гордиться молодые люди вроде Авербаха, пускай показывают они на всех старых колпаках чуждых нам мировоззрений, на всех государственных людях буржуазии. И никто не запрещает им критиковать кого угодно в нашей партии. Лозунг критики провозглашен во всей полноте. Но только когда ты хочешь критиковать кого-либо или что-либо окруженное большим уважением со стороны самой партии и советского общественного мнения — подходи осторожнее. Если уже по отношению к товарищу вроде Молчанова надо быть по-товарищески деликатным, то к большим людям, всей своей жизнью завоевавшим уважение, иногда даже славу, тем более, даже критикуя их, надо суметь подходить без озорства и надо помнить то, что сказал Ницше: «Бывает такой сильный ветер, что плевать против него небезопасно».
Очень большие люди похожи на такой сильный ветер.
Что пишут о деревне. «Бруски» 1. Роман Ф. Панферова *
Интерес к деревне у нас обострен до чрезвычайности. Она интересует нас, конечно, отнюдь не меньше, чем в те времена, когда о ней писали Успенские и Златовратские, Мамины и Каренины. В то время интеллигенция чутко и не без жути присматривалась и прислушивалась к деревне. Она рисовалась огромным сфинксом, от тайны которого казалась зависящей судьба всей страны.
Но и сейчас, если далеко не все зависит от деревни, если класс, являющийся сейчас субъектом истории, пролетариат, и по могуществу своей власти, и по степени своей уверенности в себе, и по организаторскому таланту, и по совершенству своих методов анализа и прогноза — бесконечно превышает народническую интеллигенцию, — от деревни все же еще чрезвычайно многое зависит, по лицу ее скользят еще достаточно загадочные тени, и процессы, происходящие внутри нее, заставляют все еще присматриваться к ней со смесью надежды и тревоги.
О деревне пишут очень много. Пишут и статистики, и публицисты, и сельскохозяйственники, пишут и всякого типа и всякого таланта беллетристы.
Пожалуй, если собрать всю нашу литературу о деревне, в частности художественную литературу, то получится преизрядный процент всех книг, посвященных современности.
А прислушайтесь к тому, что говорят о деревне. Говорят же о ней много.
Вот вам какой-нибудь «старый воробей», которого «не проведешь на мякине», проповедует:
«Нет, батенька мой, деревня как была, так и есть. Деревня — омут. Ее не сдвинешь. Всякие там ваши движения и продвижения — все это только рябь на ее поверхности, а в глубине она та же: неподвижная, томная, преисполненная непоколебимой веры в старую рутину и ожидающая, когда поломаются о ее косность самые крепкие и самые молодые зубы».
А рядом раздается другой голос, прикровенно угрожающий и сопровождающийся косыми взорами по сторонам:
«Деревня теперь не та! Всегда в ней была прогрессивная стихия/Всегда была в ней доля инициативной деревенской буржуазии. Ее ломали. Ее сдавили. Она согнулась, как стальная пружина. Действие тут равно противодействию. Нажимайте, нажимайте! Он еще покажет вам себя — всероссийский мужицкий Трансвааль» 2.
И с захлебывающимся весельем восхищается третий:
«Мужик проснулся, беднота зашевелилась. Призыв Советской власти, ее содействие вызывает громкое эхо по селам. Дух кооперации, коллективные хозяйства растут чем дальше, тем богаче. Потерпите немного, и мы перенесем центр тяжести сельского хозяйства в колхозы, подымем товарность, завоюем внешние рынки и т. д. и т. п.».
Чувствуется, что в словах каждого из трех есть известная частица правды. А всей правды нет ни у одного.
А вот у Панферова есть вся правда. В этом самая большая ценность его романа.
Это, конечно, роман. Художественное произведение. И не плохое.
Но это есть также реляция из деревни. Описание поля борьбы, учет опыта, урок. В этом отношении Панферов вытекает из Фурманова. Его роман — книга очень серьезная. Ее можно изучать. На ней надо учиться. Именно работнику, который соприкасается с деревней или может прийти в непосредственное с нею соприкосновение.
Каков общий смысл этой реляции? Чрезвычайно богатый, доказательный самой своей красочностью и потому чрезвычайно много, почти все теряющий, когда его прессуешь в короткую формулу.
Смысл заключается в том, что в деревне идет невероятно упорная, невероятно трудная, какая-то вязкая, устойчивая, медлительная в самом напряжении сил борьба.
Если деревня была всегда поляризована, если вся экономическая жизнь, так сказать, электролизовала деревню, делила ее на целый спектр с богатым кулаком в одну сторону, с безлошадным батраком — в другую, то сейчас дело радикально изменилось, ибо в прежние-то времена расслояла деревню внешняя сила. Правда, кулак все же представлял собою сознательную, активную стихию, но все остальное, как бы невольно, в силу чисто экономических безликих обстоятельств, попадало на свое место, задерживалось на нем или катилось ко дну.
В настоящее время и внешние деревне силы — Советская власть и контрреволюция — являются ярко выраженными волями, организованными сознательными воздействиями на деревню, да и в самой деревне полюсы не только экономические, по степени богатства с пассивным нижним полюсом беднячества; они стали совершенно активными и сознательными. Кулак выступает с четкой программой. А бедняки группируются вокруг того или иного вождя, большею частью побывавшего в Красной Армии, понюхавшего пороху гражданской войны и понимающего толк в мероприятиях своей власти.