Л.Толстой и Достоевский
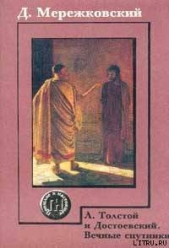
Л.Толстой и Достоевский читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Раскольников поклонился в ноги «великой грешнице» Соне.
– Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, – объясняет он.
Не значит ли это, что есть такая святыня в человеческом страдании, которой уже не может возвысить никакой подвиг и унизить никакое преступление, которая – за пределами добра и зла, «по ту сторону добра и зла»? Как тут близко, как страшно близко последнее кощунство соприкасается, даже как бы сливается с последнею святостью! Ведь ежели это действительно так, ежели есть нечто достойное религиозного поклонения и вне нравственного закона, ежели убийца Раскольников – не больший преступник, чем самоубийца Соня, то не мог ли бы кто-нибудь поклониться этой же последней святыне, последней безвинности человеческого страдания и в нем, в Раскольникове? Достоевский должен был дойти до этого вопроса, действительно, дошел и ответил на него:
– Зачем живет такой человек? – говорит Дмитрий Карамазов, указывая на отца своего. – Можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю?
– Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу? – восклицает Федор Павлович.
И он прав: если не делом, то мыслью Дмитрий – отцеубийца.
«Вдруг поднялся с места старец Зосима, шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился перед ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли.
– Простите! Простите все!»
Не мог ли бы старец сказать отцеубийце Дмитрию Федоровичу точно так же, как Раскольников говорит святой блуднице Соне:
– Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился.
И здесь опять тоже как близко, как страшно близко соприкасаются кощунство с религией! Ведь оба они, и старец Зосима, и Раскольников, сами того не зная, – старец, впрочем, может быть, и знает, но молчит до времени, – поклонились не только святыне последнего страдания, но и святыне последней свободы.
Страшная свобода! Может ли человек ее вынести? «Человеку это невозможно, но Богу все возможно». Раскольников, забывший о Боге, объясняет свой ужас перед этою свободою не общею неизбежною слабостью людей без Бога, а только своею собственною, случайною слабостью, «пошлостью»: «я и первого шага не выдержал, потому что я – подлец! Вот в чем все дело!»
– Черт меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же вошь, как и все.
Замечательно, однако, что не только «после», но и до того, без объяснений «черта», он все это уже заранее знал и предвидел:
– Неужели ты думаешь, Соня, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать, имею ль я право власть иметь, то, стало быть, не имею права власть иметь. Или, что если задаю вопрос: вошь ли человек? то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет… Уж если я столько дней промучился, пошел ли бы Наполеон или нет? – так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон.
– Потому-то я окончательно вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому, что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью! Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!..
В этих самообличениях, несмотря на их слишком явное, болезненное преувеличение, есть и доля глубокой правды.
В самом деле, что Раскольников – не «вошь», по крайней мере, не только «вошь», что он до некоторой меры «властелин», это ведь слишком явно даже для толстокожего Порфирия: «Я ведь вас за кого почитаю? За святого, за мученика, который еще не нашел своего Бога. Найдите же Его, станьте солнцем для людей».
«Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, – говорит сам Раскольников, – у меня тогда одна мысль выдумалась, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал». И это не сомнение, скорее наоборот: он пока и сам не видит всей новизны, всего «солнечного» блеска своей мысли; только мы теперь ее вполне увидели: великое философское и религиозное возрождение, которое на наших глазах едва начинается, последствий которого нам пока невозможно предвидеть, возрождение, кажущееся противохристианским, на самом деле выходящее из последних непроявленных глубин христианства (ибо без Христа не было бы и Антихриста), все это возрождение предсказано, как плод семенем, мыслью Раскольникова, действительно, до гениальности новою, действительно, «как солнце», озаряющее и «никогда никому», до него, с такой степенью ясности не являвшеюся. Не очертила ли эта мысль весь горизонт современной европейской мысли, от проповедников личного начала реальнейшим «действием» – анархистов, до проповедника этого же начала в отвлеченнейшем созерцании – Ибсена, от черта Ивана Карамазова – до «Антихриста» Ницше?
Да, в созерцании – «властелин», в действии Раскольников, пожалуй, и в самом деле – только «дрожащая тварь». Он просто не создан для действия: такова его природа, как природа лебедя плавать, а не ходить; пока лебедь плавает, он кажется «властелином», а только что выйдет на сушу, становится «дрожащею тварью». Тут не столько слабость духа, сколько иное устройство духа и даже иное устройство тела.
– Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же по смерти ставят кумиры, а стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза.
Трагедия Раскольникова заключается не в том, что, «вообразив себя бронзовым», оказался он «перстным», но лишь в том, что тело у него действительно все не из «бронзы», а душа не вся из бронзы; и ошибка его не в том, что он «полез в новое слово», а лишь в том, что он «полез» и в новое действие, тогда как рожден был только для «нового слова».
Впрочем, и это противоречие, этот разрыв созерцания и действия – вовсе не личная слабость Раскольникова, а слабость вообще всех людей новой европейской культуры до такой степени, что и самый сильный из них, Наполеон, отчасти разделял ее, хотя и в обратном смысле: в созерцании, в «идеологии», как сам он выражался, Наполеон слабее, чем в действии; были такие области религиозного созерцания, где и он, как мы видели, превращался из «властелина» в «дрожащую тварь»: «Все рыночные торговки осмеяли бы меня, если бы я вздумал объявить себя Сыном Божиим». «От великого до смешного только шаг» – шаг «величественного» лебедя, который, выйдя из воды на землю, вдруг становится смешным.
Это противоречие уже само по себе глубоко и страшно. Но последний источник того, что Раскольников называет своею «подлостью» и «пошлостью», того, что кажется нам только «человеческою, слишком человеческою» слабостью, – последний источник ужаса его перед новою свободою находится в противоречии, еще более глубоком и страшном, которого сам он не видит, но, кажется, Достоевский уже видит, кажется, именно он, первый из людей, увидел его с такою ясностью.
– Угрюм, мрачен, надменен и горд; великодушен и добр; иногда холоден и бесчувствен до бесчеловечья: право, точно в нем два противоположные характера поочередно сменяются, определяет Разумихин личность Раскольникова.
Один из этих двух поочередно сменяющихся характеров мы уже видели. А вот и другой.
Во время суда Разумихин «откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников, в бытность свою в университете, из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжение полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом товарища (который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть ли не с тринадцатилетнего возраста), поместил, наконец, этого старика в больницу и, когда тот тоже умер, похоронил его. – Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что, когда они еще жили в другом доме, у Пяти Углов, Раскольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей и был при этом обожжен».
























