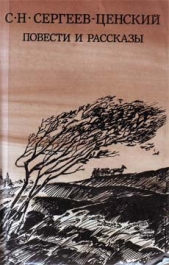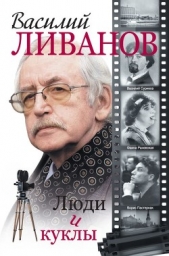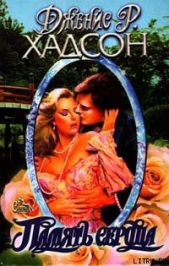Память сердца
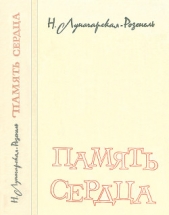
Память сердца читать книгу онлайн
От автора
Главы моих воспоминаний посвящены отдельным лицам, деятелям искусства: драматургам, актерам, режиссерам, художникам. Только глава «Великий немой» рассказывает об определенном периоде: о дореволюционном «синематографе» и немом кино 20-х годов.
Воспоминания эти — не биографии, не монографии, тем более — не критические статьи. Это только мои личные наблюдения и впечатления, отдельные штрихи, характеристики людей, встречавшихся на моем пути, и зарисовки событий, участницей или свидетельницей которых я была.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Знаете, это удивительно: безымянные живописцы из дворовых, а смотрите — сколько вкуса, как ложатся тяжелые ткани, какие воздушные и нежные кружева, какой поворот вот этой головки! В Останкине в Кускове хоть сохранились имена Антропова и других — здесь ни одного имени. А ведь эти крепостные художники, по-видимому, писали с натуры, значит, видели, встречались с этой блестящей плеядой и, работая, как-то общались с ними, хоть оставались бесправными рабами, но слушали беседы, многое понимали. Быть может, сохранились в семьях рассказы, предания…
Он собирался вернуться, чтобы с помощью хранителя музея получше познакомиться с живописью плафона и по возможности узнать биографии авторов этой коллективной работы.
Я предложила Абраму Ефимовичу пойти на речку. От усадьбы до Десны было примерно полкилометра, но после тенистого парка, после вековых дубов и лип, за воротами усадьбы начинался совсем другой, по-своему не менее привлекательный вид: по правую руку — густой, смешанный бор, а по левую — поля, уже начинавшие желтеть. Десна там довольно широкая, в низких, спокойных песчаных берегах. Абрам Ефимович широко раскрытыми серыми глазами смотрел на поля, на реку и сказал медленно, слегка смущаясь:
— Хорошо в усадьбе Вяземских, переносишься в совсем другую жизнь, другую эпоху, а вот здесь все же как-то радостнее!
Моя дочь в красном платьице и другие ребята принялись собирать васильки по краю нивы.
— Знаете, здорово это получается: среди колосьев ржи эти красные, синие, желтые платья, охапки васильков и ромашек… хочется написать все это. Да, там, — он указал на усадьбу, — прошлое. Я не спорю, несмотря на ужасы крепостничества, произвола, все же поэтическое дорогое прошлое русского народа: Пушкин, Лермонтов, Карамзин… А здесь, — он указал на детей, — настоящее и будущее. Ведь такая усадьба — редкий оранжерейный цветок, выросший на удобрении из бесправия и нищеты, — исключение для немногих, для избранных, а вот эту красоту полей, лугов, тихой речки видит и понимает любой человек. Он, может, проходя здесь, и не думает о красоте, ему просто легко дышится, а он глазами, ноздрями, легкими вбирает красоту.
Архипов редко бывал таким разговорчивым и оживленным, как в этот день. Он только не переставал жалеть, что не взял с собой ни карандашей, ни этюдника, и обещал мне снова приехать уже во всеоружии, когда я вернусь из концертной поездки. Да, много было неосуществленных планов!
После возвращения в Москву я довольно серьезно заболела, потом уехала на курорт, потом снималась вне Москвы. Словом, было мучительно стыдно перед Архиповым, но мне долго не удавалось найти время, чтобы продолжать позировать.
Наконец мы снова встретились.
— Вы какая-то другая сегодня, — сразу заметил Абрам Ефимович, — не пойму, в чем дело.
— У меня новая прическа, я совсем забыла об этом. Но это легко изменить.
— Нет, знаете, мне новая нравится больше старой, и я изменю прическу на портрете. Ничего, не пугайтесь — два-три сеанса, и портрет будет готов. Я перестану вас мучить. Вот вчера закончил портрет Гиляровской, знаете, дочери Владимира Гиляровского?
— Автора «Москвы и москвичей», знаменитого «дяди Гиляя»?
— Ну да, — его самого.
Дня через два, когда я сидела в задрапированном лиловым шелком кресле, окруженная вазами с цветами, в мастерскую Архипова вошла высокая, статная женщина, которая и оказалась Гиляровской. Она принесла Архипову книги своего отца и, боясь помешать, вскоре дружески попрощалась с ним и ушла.
— Вот и над портретом Гиляровской работа очень затянулась. Не умею быстро работать. Особенно теперь — силы идут на убыль. Ну, в самое ближайшее время закончу ваш портрет. Я рад, что у вас хватило терпения.
Он был хорошо настроен и оживлен.
Так как я собиралась вместе с Анатолием Васильевичем ехать во Францию, он заговорил со мной о русских художниках, живущих во Франции. Как настоящий, всеми корнями своего существа русский человек, он не столько осуждал, сколько жалел тех художников, которые ради эфемерных благ покинули родину.
— Их жизнь пошла по какой-то странной орбите. Сбились с круга! Оторвались от родной почвы, ну и пиши пропало!
Я рассказала Архипову, что в свое предыдущее пребывание в Париже я виделась с Коровиным, который жаловался, что ему очень тяжко живется на чужбине. После любви, признания, окружавших его в России, после блестящей среды самых ярких, талантливых людей, составлявших там его общество, в Париже он оказался одиноким, живущим серой и скудной жизнью. Я раньше знала с чужих слов, каким блестящим рассказчиком был Коровин, как переходили из уст в уста его сценки, шутки, а здесь, в Париже, я слушала рассказы о тисках, в которые он попал, о циничной эксплуатации со стороны коммерсантов, делающих свой «бизнес» в торговле картинами. Он вынужден был продавать свои картины за гроши, «на корню», еще не законченные, спекулянту, который умышленно нигде не выставлял и не продавал полотен Коровина, говоря с наглой откровенностью, что после смерти художника они будут цениться значительно дороже.
— Скажите, Наталья Александровна, а вы не слышали, как там живет Борис Григорьев?
— Я часто видела репродукции его картин в разных журналах. Судя по прессе, он пользуется большим успехом на Западе, особенно в Америке.
— Борис Григорьев — один из самых интересных и одаренных среди всех моих учеников. Я предсказывал ему блестящее будущее… Да оно уже было вполне ощутимо с первых же его самостоятельных работ. На выставках его картины всегда собирали толпу и вдруг… уехал и… поминай, как звали! Ведь регулярных сведений о живописи на Западе мы не получаем; иногда доходят отрывочные слухи. Если наткнетесь на журнальную статью о Борисе Григорьеве, тем более репродукции его картин, вырежьте для меня, очень обяжете. Как он пишет теперь? Не подпал ли под влияние разных штукарей? Вот ведь Сорин тоже был очень талантлив, а я видел в модных журналах — каких-то там «Фемина», «Ди даме» и т. п. — цветные репродукции с последних его портретов. Смотреть тошно: это все для парфюмерных коробок, не живопись, а халтура, ремесленничество…
— Да я слышала, что за портрет Сорина американки платят огромные деньги. Он стал модным портретистом.
— Не все могут противиться соблазну. Да, невольно вспоминаешь «Портрет» Гоголя — бессмертная вещь. Но Григорьев на это не клюнет, ему не нужны ни деньги, ни комплименты, ни мишурный блеск. Слишком крупное у него дарование. У него был зоркий глаз, он умел видеть интересное и важное. Я своих учеников не очень-то баловал похвалами, чтоб не зазнавались, но Борис Григорьев был в числе самых любимых и знал об этом. Я журил его подчас то за кубизм, то за суженность его тематики: всё столичные трущобы, дамы полусвета, кабаки… Но талант!
К сожалению, вскоре мне пришлось быть у Архипова с прощальным визитом: через несколько дней я должна была уехать с Анатолием Васильевичем за границу. Мне до сих пор больно вспомнить, как расстроился и огорчился Архипов из-за нового перерыва в работе над портретом.
Я старалась развеять его досаду, говорила, что уезжаю всего на полтора-два месяца, а вернувшись, отложу все дела — репетиции, съемки, концерты — и сделаю все от меня зависящее, чтобы портрет был поскорее закончен.
— Но ведь всего три-четыре сеанса, не больше… Неужели вам нельзя задержаться на пять дней?
Это было невозможно: Анатолий Васильевич плохо себя чувствовал, и отпустить его одного было бы неосторожностью.
— Абрам Ефимович, верьте мне: по многим причинам этот отъезд мне некстати — мне пришлось отказаться от интересной роли в Малом театре. Но что же делать?
Очевидно, он поверил мне, поверил, что новый перерыв не вызван моим невниманием к нему, недооценкой его труда, и сам стал меня утешать.
— Ну конечно: полтора, даже два месяца — чепуха. Мы все наверстаем.
— Я привезу вам замечательные новые краски, может быть, появились какие-нибудь особенные, каких вы даже не знаете… А сейчас позвольте мне взглянуть на портрет.