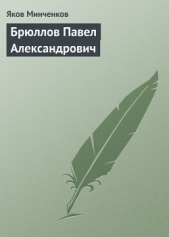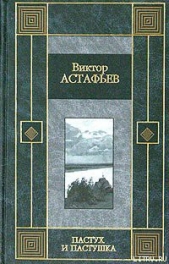Карл Брюллов
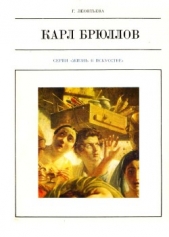
Карл Брюллов читать книгу онлайн
Жизнь замечательного русского художника первой половины XIX века К. П. Брюллова была безраздельно отдана искусству. «Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу», — говорил он о себе. Знаменитой картиной «Последний день Помпеи» он изменил укоренившиеся представления о задачах исторической живописи, в числе первых нарушил привычные каноны классицистического искусства. Своей портретной живописью он прокладывал пути реализма. Книга рассказывает о творчестве мастера, о его жизни, богатой событиями и встречами — дружба связывала художника с Пушкиным и Глинкой, Гоголем и Кукольником.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не только монументальные, но и станковые церковные работы Брюллова прочно связаны с академической традицией. Правда, он зачастую стремится к экспрессии лиц, живости движений, характеров. Но все же ему не удается еще перевести драматические коллизии сюжетов Библии и Евангелия в область человеческих страстей, как сделает это впоследствии Николай Ге в своей «Тайной вечере», или в высокую сферу морально-этических проблем, над чем вот уже второе десятилетие бьется Александр Иванов. Станковых церковных образов Брюллов сделал немало. Самые значительные из них — «Распятие» для лютеранской церкви в Петербурге, «Взятое на небо богоматери» для Казанского собора, «Воскресение» для храма Христа спасителя в Москве, «Св. Александра, возносящаяся на небо» для казарменной церкви Преображенского полка. Образы, написанные Брюлловым, пользовались у публики огромным успехом. Жуковский, глядя на плачущую Магдалину в «Распятии», заплакал сам, а «Взятие на небо богоматери» назвал «видением». Егоров, пришедший в мастерскую посмотреть церковные работы своего бывшего ученика, сказал: «… ты кистью бога хвалишь, Карл Палыч! право, бога хвалишь. Славно, братец, славно!» Композитор Серов со Стасовым неоднократно ходили в Казанский собор, чтобы вновь и вновь любоваться творением брюлловской кисти. Тогдашние иконописцы пользовались в своей работе гравюрами с «Распятия» и «Взятия на небо богоматери», как руководством. Преображенцы, заказавшие ему на собранные ими средства образ для своей полковой церкви, не были одиноки: Брюллов получает письма от незнакомых офицеров из провинции, в которых они упрашивают прославленного мастера написать для них образа, опять-таки на собранные всем полком деньги. А в 1845 году приходит письмо от старого знакомца Корнилова — он передает художнику просьбу адмирала Лазарева, который счел необходимым прибегнуть к Брюллову «как к современному нам гению живописи хотя бы за советом на счет внутреннего убранства церкви» в Херсоне, деньги на строительство которой тоже собраны по подписке, и покорнейше просит мастера набросать эскиз.
Вместе с тем высокая оценка церковных работ Брюллова вовсе не единодушна. Многие считают, что эти работы делались художником не по побуждению сердца, а «всегда по заказу и на заданную тему», другие полагают, что все его религиозные композиции «холодны», а один из отцов русской церкви, Иннокентий, отдавая справедливость таланту мастера, утверждал, что его церковные работы «чужды всякого религиозного чувства». Репин, восхищаясь «Распятием», восклицал: «Энергия, виртуозность кисти… сколько экстаза, сколько силы в этих тенях, в этих решительных линиях рисунка!» и восторгался блестящим знанием анатомии. Именно блестящим, виртуозным мастерством, а не религиозным чувством покоряли современников церковные работы Брюллова. Религиозное же чувство, вера были ему, по-видимому, чужды. «Где кончается здоровье, где кончаются деньги, там начинается религия», — говорил Генрих Гейне. К этому можно бы добавить, что религия овладевает умами в эпохи безвременья, когда политические идеалы претерпевают крушение. Кондратий Рылеев незадолго до казни на кленовом листе наколол иголкой и переслал, Е. Оболенскому такие строки:
После крушения революции 1830 года во Франции многие из числа интеллигенции ищут спасения в боге — Лист, Жорж Санд, позднее Гюго пережили периоды увлечения мистицизмом. На склоне лет набожным станет Жуковский; Чаадаев, Гоголь будут искать спасения в религии. Брюллова эти веяния богоискательства не коснулись. Даже тогда, когда здоровье кончится совсем, а смерть подойдет вплотную. Он считал себя примерным лютеранином, хотя в церковь ходил редко, — и только. Священное писание для него в первую очередь художественное произведение, полное драматических коллизий, увлекательных событий, бурных страстей. В религии он ищет прежде всего художественных переживаний. Возвышенные чувства овладевают им, когда он слушает в Певческой капелле церковную музыку Бортнянского. В такие минуты, по его словам, душа его отрывается от тела, «она в таком блаженстве, так далеко, так высоко…» Мария Ростовская в своих воспоминаниях свидетельствует, что «никто увлекательнее Брюллова не говорил о величии божием, о премудрости мироздания, о жизни Искупителя и о бессмертии души». Но с еще большим вдохновением он говорил об искусстве или об астрономии. Его речами о законах построения мира заслушивались, по словам Рамазанова, ученые. Он вообще был человеком крайне увлекающимся, любившим и умевшим говорить на темы, самые разнообразные, принадлежа по своему складу к числу людей, мысль, идеи которых не столько созревают в тиши самоуглубленного размышления, сколько в процессе разговора, собеседования, спора. Однажды, когда он только что начал роспись в куполе Исаакиевского собора, он в порыве вдохновения воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!» Когда же присутствующие спросили у него, где бы он набрал столько сюжетов, он после некоторого раздумья ответил: «Я изобразил бы на нем все религии народов, которые существовали от сотворения мира, и торжество над ними христианской». Напрасно было бы искать в этом высказывании след религиозной убежденности художника — сама дерзновенная мысль расписать небо выглядит с точки зрения веры бессмысленной… К тому же, трудясь в этот момент над религиозной росписью купола, он и тему для своей «вселенской» росписи ищет, естественно, в той же сфере. В его трактовке эта тема — история религий — выглядит, скорее, как историческая, чем божественная… Сам он не раз возражал против утверждения пуристов, что искусство должно служить только религии: «Но почему же оно должно ограничиться одною религиею?» — говорил он.
В 1847 году Брюллов получил письмо от архимандрита Сергиевской пустыни, для которой он делал образ «Троица», Игнатия Брянчанинова, известного духовного писателя: «Душа ваша представлялась мне одиноко странствующей в мире», — писал он и, полагая, что лучший выход из одиночества — пострижение в монахи, продолжал: «…сердце мое к вам отворено, давно отворено. Давно видел я, что душа ваша в земном хаосе искала красоты, которая бы ее удовлетворила. Ваши картины — это выражения сильно жаждущей души». Мы не знаем, что ответил и ответил ли Брюллов на это послание Брянчанинова. Как бы там ни было, самым решающим ответом была сама жизнь Брюллова. Мысль о затворничестве никогда не приходила ему в голову. Как бы он ни страдал от одиночества, от жестокой болезни, как бы ни печалился тем, что его страсти и слабости берут в нем порою верх — он даже говорил, что «кандалы должны быть гораздо легче наших наклонностей и страстей», — тем не менее весь он, со всеми своими страстями, пороками и добродетелями, был «мирской», «светский» человек, чуждый самоотрешенности и аскетизма. Его влекло общество, ему необходимо общение, разговоры, новые люди, хотя он в иные минуты и рвался к уединению. Ему в равной мере нужно было и то, и другое; общество, общение питало его талант. Он, пожалуй, мог бы сказать о себе словами Байрона: «Я бываю в свете только для того, чтобы нагулять аппетит к одиночеству». Его, как и Байрона, общество подчас раздражало, а длительное одиночество пугало. С годами он все реже посещает модные великосветские салоны. Своих учеников он постоянно наставлял: «Многие молодые люди с талантом считают за счастие проводить время в кругу аристократов, а попадут в этот круг — пропадут. В аристократический круг иногда полезно заглядывать, чтобы понять, что в нем не жизнь, а пустота, что он помеха для деятельности. Берите в этом отношении пример с меня: живите вечно студентами. Это единственный путь что-нибудь сделать».
Из многочисленных приглашений — а их вновь стало очень много, как только чуть призабылась скандальная история с женитьбой — он теперь выбирает лишь те дома, где он рассчитывал встретить интересных ему людей. То приходила записка от Матвея Виельгорского: «У нас сегодня музыка и итальянцы будут. Если это может вас прельстить, То милости просим в 9 часов. Весь ваш М. Виельгорский»; то зять Толстого Каменский зовет на крестины новорожденного, то Владиславлев соблазняет обедом, на котором будут «удивительные щи, гречневая каша, свежие яйца с новой зеленью, цыплята, киевское варенье, столетний херес и П. А. Каратыгин». Почти ежевечерне Брюллов, отмыв руки, расчесав кудри, одевшись опрятно, хоть и не без артистической небрежности, выходил на набережную, подзывал извозчика и отправлялся на званый вечер, в гости или в театр. Театр и музыка по-прежнему занимали в его жизни особенное место. Когда на гастроли в Петербург приехали прославленные певцы Рубини, Тамбурини и Виардо, Брюллов, как пишет Ростовская, «с ума сходил от оперы. Он во время представления Лучии или Сомнамбулы иногда приходил к нам в ложу, расстроенный и утомленный, весь в слезах». Спектакли итальянской оперы проходили с величайшим триумфом. Артистам от публики вручались под грохот аплодисментов дорогие подарки: Виардо однажды поднесли золотой, осыпанный драгоценными каменьями букет, а голову Рубини увенчали золотым венцом. Надо сказать, что театральные восторги публики охотно поощрялись начальством — когда нужно поднести букет Виардо или поспеть к отплытию парохода, на котором отбывает в Европу госпожа Альбер, тут уж не до политики. Один из публицистов того времени весьма прозрачно намекал: «…тогда как в Париже оппозиция в парламенте депутатов готовит грозу, у нас (то-то счастливая Аркадия!! добавим от себя), у нас вместо политических страстей играют иные страсти, вместо борьбы за мнения идут толки о том, быть или не быть на будущий год Итальянской опере в Петербурге».