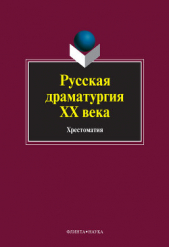Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе

Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе читать книгу онлайн
Хрестоматия адресована школьникам, изучающим советский период российской истории. Ее авторы — выдающиеся русские писатели, поэты, мемуаристы, неприемлющие античеловеческую суть тоталитаризма. Их произведения, полностью или фрагментарно представленные в этой книге, образуют цельное историческое полотно. Одновременно она является учебным пособием по русской литературе ХХ века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Позвольте! — возопила я. — Археологи все занимаются древностью, и никто не видит в этом антисоветских настроений! Никаких нелегальных сборищ не было! Если бы тогда, в тридцать седьмом году, мне показали это! Так просто было доказать!
Теперь, после войны и блокады, почти никого не осталось в живых, но в 37–м году были люди, которые могли подтвердить, что было на совещании у меня в квартире! Я вся дрожала от возбуждения.
– Был жив Николай Яковлевич Марр, был жив Михаил Петрович Кристи, который поручил мне подготовить программу всесоюзного совещания…
– Кто такой Кристи? — насторожился следователь, схватив перо.
– Вам бы надо знать! — сердито сказала я. — Это был зам. наркома по делам науки и высшей школы.
– Был такой, — подтвердил пожилой следователь.
– Он поручил нам подготовить программу.
– Почему же вы собирались на частной квартире?
– Да потому, что я была в декретном отпуску, дохаживала последние дни до родов, вот и пришли ко мне. Если бы мне дали эти показания в 1937 году! Так просто было бы доказать!
– Теперь всё это не имеет значения, за прошлое вы отбыли срок наказания. Нет смысла его поднимать.
– Как нет смысла! Как нет смысла? Обвинения отпадут, и станет ясно, что это ошибка!
– Вас тем необходимее изолировать. Раз вы считаете это ошибкой — разве вы простите, что вам испортили жизнь? Ясное дело: вы стали врагом советской власти.
– Позвольте! — закричала я, но мой, молодой, поднялся:
– Не стоит об этом говорить! Допрос окончен. Пойдем к прокурору.
Он позвонил часовому. В сопровождении солдата мы пошли длинным коридором.
Еще импозантнее приемная: сияющие дверные ручки, сияющий паркет, пестрый ковер на полу, мягкие пружины кожаных кресел.
Такой же пружинящий, приглаженный человек в сером костюме. От возбуждения я заметила не лицо, только блеск пенсне и блеск пробора.
– Гражданин прокурор! Мне только что показали обвинения тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Я хочу просить о пересмотре дела. Я всё могу опровергнуть. Я прошу…
– Да, да, мы рассмотрим, если понадобится… Вы считаете следствие законченным? — спросил прокурор следователя.
– Законченным, товарищ прокурор!
– Ну что же — прочтите последний протокол, — сказал прокурор, — подпишите, что вы уведомлены об окончании следствия, — он протянул мне бумажку.
– Но я не согласна! Оно не кончено — надо рассмотреть эти показания!
– Мы посмотрим, посмотрим… Это не имеет значения.
Он прошел в другую дверь, за приемную.
Часовой сказал:
– Пройдите!
И меня увели. Коридорами, лифтами, опять коридорами. Он отвел меня в камеру.
Я записываю факты. Мне самой теперь они кажутся неправдоподобными: как могло быть, что десятки тысяч людей отправляли в лагеря без суда, без проверки случайных показаний обвинения? Как могла существовать машина особого совещания? Кто додумался до создания этой машины? Это менее понятно, чем процессы ведьм в средние века: те вытекали из общего мировоззрения, а это стояло в противоречии проповедуемому мировоззрению. Но — было! Память объективно и точно передает совершавшееся. Прошу верить: я веду записки как исторический документ для будущих поколений, в них нет ни прикрас, ни искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о прожитом, это попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, этнографы, во время полевых работ.
* * *
Подписавших окончание следствия переводили в пересыльную камеру, а потом, через несколько дней, для ожидания этапа перевозили в пересыльную тюрьму. В Ленинграде — в Кресты, в Москве — в Бутырку.
В пересылках — другой режим, чем в следственной: можно хоть целый день лежать на кровати, разрешена переписка с волей, приносят книги, можно, если, разумеется, есть деньги на лицевом счету, заказать из ларька продукты.
Приговор — лотерейный билет: никто даже не пытался найти объяснения, почему одни получали 10 лет, другие — 8, третьи — 5. Срок наказания — карты в азартной игре, где ставка — судьба человека.
Мы, повторники, знали, что не вернемся на волю, и всё–таки это казалось бредом.
Можно ли передать сон, бред? Лев Толстой великолепно передал бредовый сон князя Андрея.
Но я чувствую бессилие передать существовавшую в действительности бредовую камеру, я лишь попытаюсь вылупить из сознания, как яйцо из скорлупы, происходившее.
Большая, окрашенная мутно–коричневым цветом, длинная комната. В конце ее такой же мутный свет окна мельтешит, ломаясь с неугасимой лампой под потолком. Комната заставлена голыми деревянными нарами. На них рассованы чемоданчики, вещи, пальто. Сорок или пятьдесят женщин сидят и бродят по камере, знакомятся, непрестанно рассказывают ход своего дела, спрашивают: «Что будет? А? Что будет?»
Калейдоскоп женских лиц. На лицах — то пустота и безглазие, то вдруг выступают такие тревожные, освещенные скорбью глаза, что ничего, кроме них, уже и не видишь.
Смутное движение толпы. Кто эти женщины? Старые и молодые, работницы, интеллигентки, домохозяйки, студентки, они — глина, смятая и приготовленная к лепке. Ползет день. Отбой укладывает всех на нары и создает тишину. Подъем — начинается движение.
Как ковш, вытягивающий рыбину из живорыбного садка, голос из двери вытягивает, называя фамилию: «С вещами!»
Это ведут подписывать приговор. Потом уж не вернут в камеру.
Человеческой душе трудно выносить бессмыслицу, память старается стереть ее. И мне трудно восстановить бессмысленный ритуал объявления приговора. Но — надо.
Ковш выхватил меня из живорыбного садка «с вещами». Проводят через обыск. Раздевают догола, осматривают каждую складку тела, каждый шов одежды. Потом — в бокс. Не тот, без воздуха, где я сидела, а просто в узкую, окрашенную темно–коричневой краской, комнату, какие бывали на старых вокзалах. По коридору гулко слышны шаги и голоса — всё время кого–то куда–то ведут, щелкают замки дверей.
Под потолком тускло горит лампочка. Как передать ожидание? Это не то ожидание, что перед опасной атакой или бомбежкой, где напряженно активен; не ожидание, когда близкий человек под ножом хирурга, — там ты веришь в разумность совершающегося; не ожидание наступающего стихийного бедствия — там ты готовишься, изыскиваешь шансы к спасению. Это, пожалуй, состояние мыши, попавшей в капкан. Ты — мелкое пойманное животное в руках слепой и всемогущей силы. У тебя бьется сердце, оно знает: пощадить может только случай.
Ах, я полюбила животных с тех пор братской любовью: я поняла их состояние безответной беспомощности!
Всеми нервами чувствуешь: за длинным рядом дверей другие, такие же, как ты, тоже ждут, и мы — в руках слепой силы.
Начала осторожно постукивать в стенку. Отвечает! Азбука тюрем.
– Кто вы?
– Женщина из десятой камеры. Ожидаю приговора.
– Аня?
– Кто стучит?
Называю фамилию. У сидевших в одной камере образуются свои сигналы, они легко отличают своих от «наседки» — специально подсаженного человека.
Слышу — правда, Аня, но…
Щелкнул замок камеры. Тишина. Шаги в коридоре…
Наконец повернулся ключ в моей двери:
– Проходите! Вещи оставьте.
Повели коридорами.
– Войдите!
Почти пустая комната. За черным школьным столом два человека с кипой папок, стопкой узких печатных повесток.
– Садитесь, — сказал голос. Лица не видела: сидело безликое, серое, в гимнастерке. — Прочтите и распишитесь.
Протянул узкую полоску бумажки, вроде пипифакса, на которой отпечатано: «Постановление Особого Совещания от …
марта 1948 г. Гр. ………. присуждается к отбытию срока наказания в исправительно–трудовых лагерях на … лет».
В многоточиях от руки: день заседания, фамилия заключенного, срок наказания.
«Если пять — еще выдержу», — мелькнуло у меня. Поставлено «пять» — повезло!
Особое совещание давало срок на основании протоколов, без суда, без опроса обвиняемого. Расписалась, и ритуал окончен. Отвели обратно, к вещам. Откуда–то из конца коридора неслись рыдания — женщина вопила и билась в железную дверь. За другими дверями — молчание. Щелкали замки. Выводили и приводили. Производство было серийным. Из соседней камеры постучала Аня. От нее я узнала что Мария Самойловна получила 10, а она, Аня, — 8 лет.