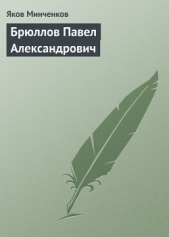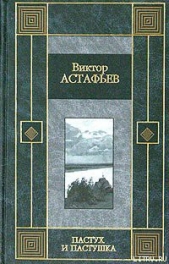Карл Брюллов
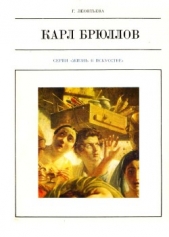
Карл Брюллов читать книгу онлайн
Жизнь замечательного русского художника первой половины XIX века К. П. Брюллова была безраздельно отдана искусству. «Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу», — говорил он о себе. Знаменитой картиной «Последний день Помпеи» он изменил укоренившиеся представления о задачах исторической живописи, в числе первых нарушил привычные каноны классицистического искусства. Своей портретной живописью он прокладывал пути реализма. Книга рассказывает о творчестве мастера, о его жизни, богатой событиями и встречами — дружба связывала художника с Пушкиным и Глинкой, Гоголем и Кукольником.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Естественно, что новое понимание натуры вело к пересмотру средств ее изображения. Во-первых, Брюллов наставлял учеников для каждой натуры выбирать особую манеру, отвечающую ее особенностям. Необходимо, чтобы «карандаш бегал по воле мысли: мысль перевернется и карандаш должен перевернуться. Мысль и рисунок — это муж и жена. Чувство сеет в художнике мысль, рисунок рождает ее, одно без другого немо и бесплодно», — говорил он. Он призывал не только к виртуозному владению рисунком — как скрипач смычком, — но, по словам Ге, «ввел у нас живой рисунок, т. е. поглощение всех частей общей формой. В этой форме могло проявиться живое движение характера фигуры. Этого прежде не было». От колорита он требовал естественности, учил, как достичь того, чтобы «в живописи не видно было красок», чтобы краска превратилась в естественный цвет, в плоть натурального предмета.
В полном соответствии с новым пониманием натуры учил Брюллов относиться и к наследию великих мастеров прошлого. «Не обезьяньте меня», — повторял он ученикам неустанно. Так же категорично выступал он против подражания великим мастерам. Художник обязан изучить наследие, но «передразнивать» никого из древних не может, истинный художник все должен найти в себе самом, ступающий след в след за самым великим никогда не окажется впереди… «Почему искусство пало? — часто говорил Брюллов. — Потому что за мерило прекрасного в композиции взяли одного мастера, в колорите другого и пр., сделали из этих художников каких-то недосягаемых богов, пустились подражать им, забыв, что сами живут в другой век, имеющий другие идеи и интересы, что сами имеют свой собственный ум и чувство, а потому ни Рафаэлями, ни Тицианами не вышли, а вышли жалкими обезьянами». Снова лейтмотивом мысли учителя звучит все та же идея: искусство мертво, если не отражает духа, мыслей, интересов своего времени. Анализируя вместе с учениками работу Веласкеса или Рубенса, он не только останавливался на мастерстве приемов, но — и это было увлекательно ново — умел заставить за изображением увидеть ту живую натуру, которая была когда-то перед глазами мастера. «Рисунок греков именно оттого и был хорош, что они подмечали красоту в самой натуре, а новейшие художники уступают им, потому что ищут красоты более в статуях, чем в натуре», — после такого наставления у молодых людей просыпалось воображение, великое творение великого мастера уже не представлялось лишь недосягаемым шедевром, образцом виртуозных приемов. Глазами воображения они видели словно бы ожившего художника и окружавшую его живую жизнь, натуру, которая когда-то стояла перед ним. Творение искусства становилось окном в жизнь.
Наставления Брюллова еще и потому имели необычайно притягательную силу, что он умел говорить об искусстве образно, вдохновенно, зажигательно. В памяти Шевченко, Мокрицкого и других юношей на всю жизнь остались совместные посещения Эрмитажа. «О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я передать вам того, что я от него тогда слышал! — восклицал Шевченко. — Но вы сами знаете, как он говорил. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют». Эти блестящие лекции по теории искусства часто кончались Теньером, особенно его картиной «Казарма». Тоже очень интересное свидетельство — Брюллов обращает особенное внимание учеников не на Рафаэля или антиков, не на то, на чем воспитывался сам, — а на живую жанровую сцену. Опять пища к размышлению, снова как бы незаметный толчок все в том же направлении — к жизни, к натуре. Заставить думать, научить понимать вообще было главным постулатом его метода. У него даже любимым, самым частым словом в общении с учениками было это характерное — «понимаете»…
Его уроки были лишены назойливой дидактики, нарочитости. Любое случайное событие могло вызвать целую импровизированную лекцию. Приходил молодой художник Штернберг с целой портфелью живых малороссийских сцен и типов — все собирались вокруг, и просмотр рисунков оборачивался пространной лекцией о благодетельной силе любви художника к тому, что он взялся изобразить. Приносят братья Чернецовы свои рисунки, сделанные в путешествии по Волге, — и вот уже вспоминается вновь Штернберг, в одном эскизе которого видна была вся Малороссия, сравниваются работы художников, в сравнении отдается предпочтение тому, что сделано с глубоким знанием натуры. Отмечается на квартире одного из художников отъезд пенсионеров за границу. Брюллов, как любимый профессор, конечно, в числе приглашенных. Веселье, тосты, цветы, вино. Но Брюллов и тут остается наставником. Едва он поднялся, смолкает музыка — говорит учитель, и как говорит! Говорит о том, что художник должен иметь чистую совесть, чтобы никакой упрек не тревожил его: «Тогда эта чистота видна будет и в его произведениях. Помните и внушайте вашему брату, что энтузиазм есть основание искусства, а энтузиазм не может быть без спокойного духа и чистой совести…»
Когда Брюллов обходил годичные академические выставки, за ним обычно шла толпа студентов, настолько он бывал меток в оценках, справедлив, бережно внимателен к малейшему обещанию таланта, блеснувшего в ученической работе, беспощаден к бездарности. И что еще подкупало учеников — он и хвалил и ругал не небрежно, не свысока, а вновь, неизменно повторяя свое любимое «понимаете…», делал глубокий, серьезный разбор картины. Все это позволило одному из современников сказать, что Брюллов был «сострадателен к своему собрату-художнику». В сострадании, в бережности есть совсем особый оттенок, когда они исходят от блестящего мастера, овеянного мировой славой… Другому современнику, тоже ученику Брюллова, принадлежат слова о том, что учитель «до самозабвения увлекался чужими удачами, обращался в сотрудника других художников, чтобы улучшить их произведения». Это касалось больше всего его учеников, но отнюдь не только их. И кто сможет измерить, что сильнее воздействовало здесь на воспитанника — поправленная работа или готовность мастера помочь другому.
Вообще нравственное воспитание Брюллов ставил очень высоко. Неустанными разговорами о спокойствии духа и чистоте совести он старался помочь молодому человеку найти нравственную опору в жизни, открыть ему истинные, не мимолетно-суетные ценности. Правда, нередко наставления приходили в противоречие с личным примером. Брюллов далеко не был безупречен. Но именно потому, что сам сознавал это, сам страдал от этого не единожды, он с особенной готовностью отдавал и душевные силы, и дорогое свое время «на нравственную работу». Сам он не раз впоследствии пожалеет, что так щедро тратил себя на удовольствия, позволял себе порой совсем не нужный ни уму, ни сердцу адюльтер, не вел строго счета лишним стаканам вина. С тем большей настойчивостью говорит он ученикам об опасности пустого рассеяния в удовольствиях высшего света, остерегает их от заискивания и искательства похвал. Только умение делать хорошо свое дело на земле дает человеку опору: «Не хлопочите о том, чтобы все вас хвалили… чтобы не унижать себя в собственных глазах», «прилежно изучайте ваше дело, не жалейте на это трудов», «старайтесь не казаться знающими людьми, а быть ими в самом деле» — эти наставления донесли до нас ученики, значит, слова учителя задели сердце, прочно сохранились в памяти, не пропали втуне.
Вспыльчивый от природы, Брюллов порой не давал себе труда сдержать гнев. «Это был космос, в котором враждебные начала были перемешаны и то извергались вулканом страстей, то лились сладостным блеском. Он весь был страсть, он ничего не делал спокойно, как делают обыкновенные люди. Когда в нем кипели страсти, взрыв их был ужасен, и кто стоял ближе, тому и доставалось больнее», — говорит Мокрицкий, перед глазами которого прошла длинная вереница будничных брюлловских дней. Нередко он грубо кричал на нерадивого или неумелого ученика, швырял об пол палитру, восклицая в отчаянии: «Эк напорол, черт возьми! Да с вами и сам разучишься рисовать. Замучат, право! Нет, я не способен учить, не могу, это меня бесит!» Но и остывал он так же скоро, как распалялся. И никогда не гнушался попросить извинения за безобразную вспышку. И вот он уже с карандашом в руках обстоятельно, терпеливо, долго объясняет, в чем суть ошибки, толкует о тайных законах строения человеческого тела, о скрытом механизме его движений. Ученик же, позабыв об обиде, с восхищением следит за движением карандаша учителя, поражаясь, как буквально на глазах его вялый безжизненный рисунок обретает четкость форм, конструктивность, живую характерность. Ученики, изучив со временем характер Брюллова, начинали безболезненнее сносить его гнев, ибо понимали — за ним кроется не злоба, не дурной умысел, а прямота и в конечном итоге желание им помочь. Железнов в воспоминаниях говорит: «Мне кажется, что я более многих других порицателей Брюллова имею право жаловаться на его грубость, на его безалаберный и тяжелый характер, но именно поэтому я осмеливаюсь сказать, что Брюллов был человек прямой, что он более несносен и невыносим, чем дурен».