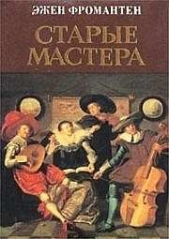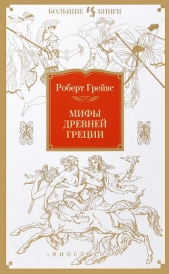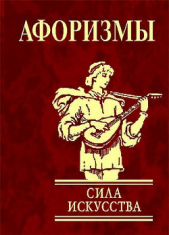Философия искусства
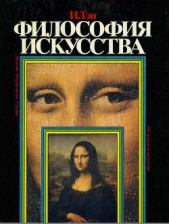
Философия искусства читать книгу онлайн
Автор этой в свое время одной из самых популярных книг по истории и теории изобразительного искусства выдающийся французский философ и историк Ипполит Тэн (1828—1893) по праву считается классиком мировой искусствоведческой мысли. Впервые она была выпущена в 1880 г. на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864—1869 гг. в парижской Школе изящных искусств. С присущим ему литературным мастерством Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события Древней Греции, Италии и Нидерландов в средние века и в эпоху Возрождения, показано их влияние на развитие культуры. Печатается в переводе А. Н. Чудинова по изданию, выпущенному в Санкт-Петербурге в 1904 г. Имена и фамилии, названия художественных произведений даются в современной транскрипции. Для всех, кто интересуется проблемами теории и истории мирового искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рассмотрим это искусство повнимательней; в своих красках и формах оно проявляет все те инстинкты, какие выказались в народной деятельности и ее созданиях. До тех пор пока семь северных провинций и десять южных составляли все один народ, у них была и одна школа. Энгельбрехт, Лука Лейденский, Ян Скорел, старик Геэмскерк, Корнелий Гаарлемский, Блумарт, Гольциус пишут в том же стиле, как и современники их в Брюгге и Антверпене. Нет еще особой голландской школы, потому что нет еще особой школы бельгийской. При начале войны за независимость северные живописцы силятся стать итальянцами, точно так же, как и южные. Но начиная с 1600-х годов все изменяется как в живописи, так и в остальном. Прилив народной струи дает, очевидно, перевес народным инстинктам. Нет уже больше наготы; идеальное тело, красота животной стороны человека, взлелеянная ярким солнцем, благородная симметрия членов и поз, великая аллегорическая или мифологическая картина — все это не соответствует вкусу германского племени. К тому же господствующий у голландцев кальвинизм изгоняет все это из их храмов, у народа бережливых и современных тружеников нет пышного барского представительства, щегольства величавым эпикуреизмом, которое вызывает чувственную языческую картину в чертогах у других при многочисленном серебре, богатых ливреях и роскошной мебели. Когда Амелия де Зольм задумала соорудить памятник в подобном стиле своему мужу, статхаудеру Фридриху-Генриху, ей пришлось выписать в Орангезааль фламандских живописцев: ван Тульдена и Йорданса. Для таких реалистических воображений и среди таких республиканских нравов в стране, где какой-нибудь сапожник-судоснарядчик может вдруг очутиться вице-адмиралом, интересующая всех личность — это гражданин, человек с костями и телом, не раздетый или не полунагой, как грек, а в своем обычном наряде и в своей обычной позе, какой-нибудь хорошо управляющий сановник, какой-нибудь храбро бившийся офицер. Героический стиль употреблен в одном только случае: им пишут большие портреты, украшающие городские ратуши и другие общественные учреждения в память оказанных услуг. И действительно, тут появляется новый род живописи: обширная картина, заключающая в себе пять, десять, двадцать, даже тридцать портретов во весь рост — портретов устроителей какой-нибудь больницы, пищальников, идущих на стрельбу в цель, синдиков, заседающих вокруг присутственного стола, офицеров, предлагающих какой-нибудь тост на банкете, профессоров, что-нибудь наглядно объясняющих слушателям в амфитеатре аудитории. Все здесь сгруппированы.вокруг одной известной деятельности, сообразной их общественному положению; каждый изображен в обычной своей одежде, с оружием, значком, принадлежностями и обстановкой своей действительной жизни; это подлинно историческая картина, в высшей степени поучительная и выразительная, где Франс Халс, Рембрандт, Говаарт Флинк, Фердинанд Боль, Теодор Кейзер и Ян Равештейн изобразили героический век своего народа, где умные, энергичные, честные головы дышат благородством силы и совести, где прекрасный костюм эпохи Возрождения, эти перевязи-подлатники из буйволовой кожи, эти брыжи, отложные шитые воротники, эти черные епанчи и плащи обрамляют своей важностью и своим блеском степенную осанку бодрых тел и открытое выражение физиономий, где художник, то мужественной простотою своих средств, то искренностью и силой своего убеждения, становится в уровень своим героям.

Такова общественная живопись; остается живопись частная, украшающая дома частных лиц и, как своими размерами, так и сюжетами, приноравливающаяся к состоянию и характеру своих покупателей. "Нет такого бедняка из простых горожан, — говорит Париваль, — который не пожелал бы обзавестись подобными картинами”. Иной булочник платит шестьсот гульденов за одну какую-нибудь фигуру кисти Вермера Делфтского. Вместе с чистотой и приглядностью внутреннего убранства вообще это составляет всю роскошь у голландцев; ’’они не щадят на нее денег и скорее готовы сократить издержки на еду”. Здесь проявляется опять тот же национальный инстинкт, каким обнаруживался он в первую эпоху у Ван Эйков, Квентина Матсиса и Луки Лейденского, и это инстинкт прямо национальный; он до того заветен и живуч, что даже в Бельгии наряду с мифологической и декоративной живописью бежит он у Брейгелей и Тенирса, подобно ручейку, бок о бок с широкой рекой. Все, чего он требует и на что именно вызывает, — это изображение действительного человека и действительной жизни так, как видят их глаза: мещан, поселян, скот, мелочные лавочки, харчевни, комнаты, улицы, пейзажи. Их не нужно изменять, с тем чтобы облагородить; одним уже своим существованием они возбуждают интерес. Природа сама по себе, какова бы она ни была, человеческая, животная, растительная, неодушевленная, со всеми ее неправильностями, пошлостями, изъянами, вправе быть такою, какова есть; коль скоро поймешь ее, непременно полюбишь и станешь находить приятным ее вид. Цель искусства не изменять ее, а лишь истолковать ее в передаче; силою симпатии оно сообщает ей красоту. Понимаемая так живопись вольна изображать хозяйку, сидящую в избе за пряжей, столяра, стругающего рубанком на верстаке, хирурга, перевязывающего руку какому-нибудь мужику, кухарку, вздевающую на вертел живность или дичь, богатую барыню, которой подают умываться, все домашнее житье-бытье, от каморки и до гостиной, все типы от побагровевшей хари какого-нибудь пьяницы до спокойной улыбки благовоспитанной барышни, все сцены щегольской или простонародной жизни, карточную игру в зале с золотыми узорчатыми обоями, мужицкую гульбу в какой-нибудь совсем голой харчевне, катанье по замерзшему каналу на коньках, коров на водопое, барки на море и все бесконечное разнообразие неба, земли, воды, дня и ночи. Терборх, Метсю, Герард Дау, Вермер Делфтский, Адриан Броувер, Схалькен, Франс ван Миерис, Ян Стен, Вуверманс, оба ван Остаде, Вей-нантс, Кейп, Аарт ван дер Неер, Рейсдал, Гоббема, Паулюс Поттер, Ба-кгейзены, оба ван де Вельде, Филипп де Кениг, ван дер Гейден, да и сколько еще других! Нет школы, в которой было бы такое множество самобытных талантов; когда искусство берет не одну только ограниченную высь, а захватывает все широкое поле жизни, тогда готов в нем особый участок любимому дарованию; идеальное ведь тесно и потому дает простор всего каким-нибудь двум-трем гениям; мир действительности необъятен, и таланты найдут в нем себе место многими десятками. От всех этих созданий веет какой-то мирной и счастливой гармонией; право, отдыхаешь, на них глядя; душа художника точно так же, как и душа его лиц, здесь в полном равновесии; чувствуешь, что тебе было бы привольно и хорошо на полотне его картины. Очевидно, что его воображение дальше этого и не идет; кажется, сам он, подобно своим фигурам, совершенно доволен этой жизнью; вся природа представляется ему такою, как ей должно быть; если он что и добавляет к ней, то разве лишь известный распорядок, накладку одного тона вслед за другим, какой-нибудь особенный эффект света, подбор известных положений или поз; художник перед природой — что счастливо женившийся голландец перед милой ему женой; он и не желает в ней ничего другого, любит ее по привычке сердца и по задушевному соответствию; много-много, что в какой-нибудь день праздничный он попросит ее надеть красное платье вместо голубого. Он не похож на наших живописцев, утонченных наблюдателей, набравшихся из книг и журналов философией и эстетикой по горло и пишущих крестьянина и работника ни дать ни взять, как турка и арапа, т. е. будто интересное какое-нибудь животное или редкостный в своем роде экземпляр; в пейзажи свои вносят они разные тонкости и нежности, изысканную чувствительность поэтов и завзятых горожан — вносят, с тем чтобы пахнуть на вас жизнью затишья и молчаливою, безмолвною мечтой. Он, напротив, гораздо простодушнее; избыток мозговой деятельности не сбил его с пути и не раздражил чрезмерно; в сравнении с нами он — ремесленник; в сфере живописцев только и гонится за живописным; его менее затрагивает какая-нибудь неожиданная и поразительная подробность, чем крупная, простые и общие черты. Оттого его более здоровое и не так едкое произведение обращается к душам, менее охваченным культурой, и доставляет удовольствие гораздо большему числу людей. Между всеми этими живописцами только двое — Рейсдал, благодаря утонченной душе своей и превосходству своего воспитания, а в особенности Рембрандт, благодаря необыкновенному строению глаза и крайней нелюдимости его гения, — выдвинулись из своего народа и из своего времени и достигли тех общих родовых инстинктов, которые связывают одно с другим различные германские племена и служат переходом к чувству новейшей уже эпохи. Рембрандт, отшельник, собиратель, увлекаемый развитием чудовищной способности, жил, подобно нашему Бальзаку, каким-то магом и грезовидцем в мире, созданном им самим, и в мире, к которому ключ был только у него. Превосходя всех живописцев прирожденной тонкостью и остротой своих оптических ощущений, он постиг и выдержал во всех ее последствиях ту истину, что для глаза вся сущность любой видимой вещи заключается в представляемом ею пятне, что самый простой цвет бесконечно многосложен, что всякое зрительное ощущение есть продукт не только естественных элементов этого цвета, но и всего окружающего, что всякий предмет в поле зрения является только пятном, видоизменяемым (в своем цвете) другими пятнами, и что поэтому главным лицом в картине выходит колоритный, трепетный и все перемежающий собою воздух, в который живописные фигуры все погружены, как рыбы в пучину моря. Он сумел передать этот живой воздух осязательно и показал всю кишащую, затаенную в нем жизнь; он ввел в него освещение своего родного края, этот немощный, желтоватый свет, подобный свету лампады в погребе; он прочувствовал всю мучительную борьбу его с тенью, постепенное угасание редеющих лучей, которые наконец замирают во тьме углублений, дрожания слабых отблесков, напрасно пристающих к лоснящимся стенам, и всю эту смутную ватагу полумраков, которая, будучи невидимой для простого глаза, на его картинах и эстампах предстает каким-то подводным миром, чуть мерцающим сквозь бездну вод. По выходе из такого мрака полный свет явился глазам его ослепительным уже потоком; он произвел на него впечатление сверкающей молнии, какого-то волшебного озарения или целого снопа огневых стрел. Таким образом, в неодушевленном мире открыл он самую полную, самую выразительную драму, все контрасты и все столкновения, все, что есть подавляющего и смертельно мрачного в ночной тьме, все, что есть самого неуловимого и самого меланхолического в полутени, все, что есть самого рьяного и неудержного во вторжении внезапно врывающегося дня. Затем ему оставалось одно — на эту естественную драму нанести драму человеческую; построенный таким образом театр сам определяет для себя актеров. Греки и итальянцы знали в человеке и в жизни только одни самые прямые и самые высокие поросли, здоровый только цвет, какой может развернуться при сильном солнечном свете; он же видит, напротив, корневой комель всей этой растительности, все, что пресмыкается и плесневеет в тени, видит безобразные и чахлые недоростки, темный бедствующий люд, какое-нибудь амстердамское жидовство, грязное и страждущее население большого города и в дурном еще климате, кривоножку нищего, старую раздувшуюся идиотку, лысую голову истертого ремесленника, бледное лицо больного, весь гомозящийся рой тех дурных страстишек и гадостей, которые, как черви в гнилом дереве, кишат внутри наших цивилизаций. Ступив раз на этот путь, он мог постичь религию страдания, истинное христианство, мог наглядно истолковывать Библию, как любой лоллард, мог обрести вечного Христа, присущего вам и теперь, как прежде живущего в каком-нибудь подвале или в какой-нибудь харчевне Голландии, точно так же, как и под лучами иерусалимского солнца, утешителя и целителя скорбных и бедствующих, единственного им Спасителя, ибо Он был так же, как они, беден, а скорбен, конечно, еще больше их. Сам Рембрандт проникся оттого состраданием; стоя вместе с другими мастерами, которые кажутся живописцами аристократии, он перед ними истый народ; по крайней мере, он гораздо человечнее всех прочих; его широкие сочувствия обнимают природу до последней глубины, до дна; ему не противно никакое безобразие, никакая потребность благородства или веселости не скроют от него тайных отмелей сущей правды. Вот почему свободный от всяких пут и руководимый необыкновенной чувствительностью своих органов, он смог изобразить в человеке не только один общий строй и отвлеченный тип, которыми удовлетворяется классическое искусство, но вместе и все частности, все глубины особи, бесконечную и неуловимую многосложность нравственной личности, весь тот подвижной отпечаток, который на одном лице сосредоточивает вдруг целую историю души и сердца и который с такой изумительной ясностью умел прозревать один только Шекспир. В этом отношении Рембрандт самый своеобразный из художников нового времени; он выковывает конец той цепи, которой греки отлили начальное звено; все прочие художники — флорентинцы, венецианцы, фламандцы — стоят на перепутье, и если бы теперь наша болезненно-возбужденная чувствительность, наша гоняющаяся за оттенками пытливость, наше неотступное искание истины, наши гадания насчет сокрытых от нас далей и прошлого человеческой природы стали доискиваться своих предшественников и учителей, то какой-нибудь Бальзак и Делакруа могли бы найти их в Рембрандте и Шекспире.