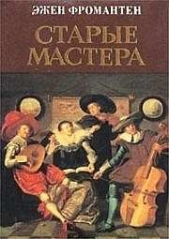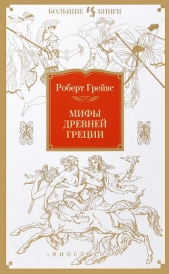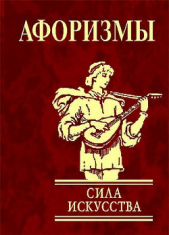Философия искусства
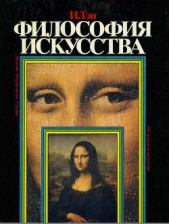
Философия искусства читать книгу онлайн
Автор этой в свое время одной из самых популярных книг по истории и теории изобразительного искусства выдающийся французский философ и историк Ипполит Тэн (1828—1893) по праву считается классиком мировой искусствоведческой мысли. Впервые она была выпущена в 1880 г. на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864—1869 гг. в парижской Школе изящных искусств. С присущим ему литературным мастерством Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события Древней Греции, Италии и Нидерландов в средние века и в эпоху Возрождения, показано их влияние на развитие культуры. Печатается в переводе А. Н. Чудинова по изданию, выпущенному в Санкт-Петербурге в 1904 г. Имена и фамилии, названия художественных произведений даются в современной транскрипции. Для всех, кто интересуется проблемами теории и истории мирового искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С другой стороны, этот положительный ум отличается спокойствием. Сравните нидерландца с другими одноплеменными ему народами, и вы найдете, что он как-то лучше уравновешен и более способен быть довольным. В нем не видно тех рьяных страстей, того боевого настроения, той напряженной воли, тех мордашечьих, бульдожьих инстинктов, той величаво-мрачной гордости, какими три прочные завоевания и вековое наследие политической борьбы наделили англичан. В нем не видно того тревожного чувства и той жажды деятельности, какие сухость воздуха, резкие переходы от тепла к холоду и обилие электричества укоренили в американцах Соединенных Штатов. Он живет в сыром и однообразном климате, ослабляющем или, точнее, распускающем нервы, развивающем лимфатический темперамент, умеряющем вспышки нетерпения, взрывы и пыль души, притупляющем рьяность страстей и обращающем характер больше к чувственности и к веселости. Вы встречались с подобным же климатическим влиянием, когда мы сравнивали гений и искусство венецианцев с гением и искусством флорентинцев. Здесь, впрочем, и события пришли на помощь климату, история действовала с физиологией заодно. Люди этих стран не испытали, как заморские их соседи, двух или трех нашествий, вторжений целого народа, саксов, датчан, нормандцев, водворившихся на земле тех. Они не унаследовали той ненависти, какую тяжкий гнет, сопротивление, раздражение, продолжительные усилия, борьба сперва открытая и жестокая, потом глухая и законная передают из рода в род. С древнейших пор мы уже видим их, как во времена Плиния, добывающими себе соль, ’’соединенными, по стародавнему обычаю, в товарищества или артели для обработки болотистой земли”[35], свободными в своих гильдиях, отстаивающими независимость, самосуд, древнейшие права свои, занятыми крупным рыболовством, торговлей и промышленностью, величающими города свои именем портов, короче — такими, какими Гвиччардини находит их в XVI столетии, ’’весьма падкими к наживе и зоркими ко всякому барышу”; но и в этом нет у них, однако же, ничего лихорадочного или безрассудного. ’’Они покойны и совершенно степенны характером. При случае благоразумно пользуются и богатством, и другими мирскими благами, но нелегко выходят из себя, что сейчас же видно по их речам и лицам. Они не слишком склонны ни к гневу, ни к гордости и живут между собой, как следует добрым людям, и особенно отличаются веселым и шутливым расположением”. По его мнению, у них вовсе нет искательного и непомерного честолюбия; многие из них рано покидают дела, занимаются постройками, развлечениями и живут в свое удовольствие. Все физические и нравственные обстоятельства, география и политика, настоящее и прошлое — все содействовало одному и тому же результату: развитию в них одной способности и одной наклонности в ущерб, конечно, остальным — умения вести себя и сердечного благоразумия, практического соображения и ограниченности желаний; они мастера улучшать действительный, реальный мир и не ищут затем ничего больше.
В самом деле, взгляните на их произведения: своим совершенством и своими недостатками они обнаруживают в одно и то же время и пределы, и могучие способности их ума. У них нет великой философии, которая так естественна в Германии, великой поэзии, которая так пышно расцвела в Англии. Они не умеют забыть чувственных вещей и положительных интересов, с тем чтобы отдаться чистому умозрению, последовать за смелым ходом логики, пуститься во все тонкости анализа, уйти в самую глубь отвлеченной мысли. Они не знают тех душевных волнений и той бури подавленных чувств, которые сообщают слогу трагический отпечаток; они не знают тех беспредельных фантазий, тех чудных или возвышенных грез, которые, поднявшись над пошлостями жизни, открывают новый мир перед мечтателем. У них нет ни одного философа крупного разбора; их Спиноза — еврей, ученик Декарта и раввинов, одинокий, разобщенный от сограждан и духом и племенем. Ни одна их книга не стала общеевропейской, как произведения Камоэнса, Бернса, которые, однако, произошли среди столь же небольших народов. Одного только из их писателей читали все люди его века, именно Эразма Роттердамского, утонченного литератора, но писавшего на латинском языке и по своему воспитанию, своим вкусам, слогу и идеям принадлежащего к семье гуманистов и ученых Италии. Старинные голландские поэты, например Якоб Кате, являются серьезными, рассудительными, немножко растянутыми моралистами, восхваляющими радости сердца и тихую семейную жизнь. Фламандские поэты XIII и XIV веков заранее объявляют своим слушателям, что они станут рассказывать им не рыцарские басни, а истинные происшествия, и перелагают в стихи практические изречения или случаи современной действительности. Их так называемые риторские школы напрасно обрабатывали и выводили на сцену поэзию: ни один талант не извлек из этого материала великого и прекрасного произведения. У них выдавались хроникеры, каков Шателен, и памфлетисты, как Марникс де Сент-Альдегонд; но вялый рассказ их всегда напыщен; их тяжелое, сыромятное и резкое красноречие напоминает грубоватый колорит и энергическую тяжеловесность национальной их живописи, хотя, конечно, и не может равняться с ней. В настоящее время литература их почти, можно сказать, ничтожна. Их единственный романист Консианс хотя и изрядный наблюдатель, однако же очень тяжел и пошловат, на наш вкус. Попавши в их сторону и взглянув в их газеты, по крайней мере в те, которые фабрикуются не в Париже, подумаешь, что заехал в провинцию или куда-то еще подальше; полемика в них груба, риторические прикрасы устарели, шутки дубоваты, все остроты притуплены; тут ничего нет, кроме плоской веселости или грубого озлобления; самые карикатуры кажутся нам аляповатыми. Захотите вы определить долю их участия в великом здании современной мысли, вы найдете, что кропотливо, методически, как подобает честным и добрым рабочим, они обтесали несколько камней, — вот и все. Они могут привести ученую филологическую школу в Лейдене, юрисконсультов, как Гуго Гроций, таких натуралистов и врачей, как Левенгук, Сваммердам и Бургаве, таких физиков, как Гюйгенс, таких космографов, как Ортелий и Меркатор, — короче, известный подбор специалистов полезностей, но не укажут вам творческих гениев, открывающих великие и самобытные воззрения на мир или оправляющих свои замыслы в прекрасные, для всех обаятельные формы. Соседним народам предоставили они ту роль, какую исполняла у ног Иисуса Христа созерцательная Мария, а для себя избрали роль Марфы домостроительной; в XVII столетии они доставили кафедры изгнанным из Франции протестантским ученым, дали у себя приют преследуемой во всей Европе свободной мысли, нашли издателей для всех научных и полемических книг; позже они печатали всю французскую философию XVIII века, выставили книгопродавцов, сводчиков и даже подпечатчиков для новейшей литературы вообще. Изо всего этого они извлекают себе пользу: они знают языки, читают и приобретают образование; а это такое богатство, которым никому не мешает запастись. Но далее этого они не идут; ни прежние, ни нынешние их произведения не обличают в них потребности созерцать мир отвлеченный за пределом мира чувственного и мир фантазии за пределом мира реального.
Напротив, они всегда преуспевали, да преуспевают и теперь, во всех искусствах, называемых полезными. ’’Первые по ту сторону Альпов, — говорит Гвиччардини, — они изобрели шерстяные ткани”. Вплоть до 1404 года они одни умели ткать и выделывать их; Англия снабжала их шерстью; англичане только и знали тогда, что разводить и стричь овец. К концу XVI века — единственный в тогдашней Европе пример — ’’почти все они, даже и крестьяне, умеют читать и писать; большая часть знает притом грамматические правила”. Оттого риторские школы, т. е. общества красноречия и театральной игры, распространились даже в местечках, что уже показывает, до какой степени совершенства довели они свою цивилизацию. ’’Они обладают, — говорит Гвиччардини, — особенным талантом и удачей в быстром изобретении всяких машин, остроумно приспособленных к облегчению, ускорению и выполнению всего, что они ни делают, даже и по части кухни”. Сказать правду, они первые наряду с итальянцами достигли в Европе благосостояния, богатства, безопасности, свободы, жизненных удобств и всех тех благ, которые теперь кажутся нам уделом новейшего только времени. В XIII веке какой-нибудь Брюгге стоил Венеции; в XVI — Антверпен был промышленной и торговой столицей Севера. Гвиччардини не нахвалится этим городом, а он видел его только уже ведь в полном упадке, снова завоеванным герцогом Пармою, после страшной осады 1585 года. В XVII веке Голландия, оставаясь свободной, в течение целого столетия занимает то место, какое в нашу пору принадлежит Англии; Фландрия сколько раз ни попадала в руки испанцев, сколько ни попиралась во всех войнах Людовика XIV, как часто ни отдавалась на жертву Австрии, как ни служила побоищем для французских революционных войн, никогда не опускалась до уровня с Италией или Испанией; то полублагоденствие, каким пользовалась она, несмотря на погромы частых нашествий и на неловкий деспотизм незваных владык, обнаруживает всю энергию ее живучего здравомыслия и всю плодотворность в ней прилежного труда.