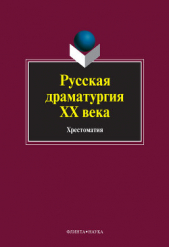Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе

Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе читать книгу онлайн
Хрестоматия адресована школьникам, изучающим советский период российской истории. Ее авторы — выдающиеся русские писатели, поэты, мемуаристы, неприемлющие античеловеческую суть тоталитаризма. Их произведения, полностью или фрагментарно представленные в этой книге, образуют цельное историческое полотно. Одновременно она является учебным пособием по русской литературе ХХ века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В таком тепле только присядь на миг — и заснёшь тут же.
Комнат в конторе две. Второй, прорабской, дверь недоприкрыта, и оттуда голос прораба гремит:
– Мы имеем перерасход по фонду заработной платы и перерасход по стройматериалам. Ценнейшие доски, не говорю уже о сборных щитах, у вас заключённые на дрова рубят и в обогревалках сжигают, а вы не видите ничего. А цемент около склада на днях заключённые разгружали на сильном ветру и ещё носилками носили по десяти метров, так вся площадка вокруг склада в цементе по щиколотку, и рабочие ушли не чёрные, а серые. Сколько потерь!
Совещание, значит, у прораба. Должно, с десятниками.
У входа в углу сидит дневальный на табуретке, разомлел. Дальше Шкуропатенко, Б-219, жердь кривая, бельмом уставился в окошко, доглядает и сейчас, не прут ли его дома сборные. Толь–то проахал, дядя.
Бухгалтера два, тоже зэки, хлеб поджаривают на печке. Чтоб не горел — сеточку такую подстроили из проволоки.
Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, не видит.
А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.
– Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!
– Кривлянье! — ложку перед ротом задержа, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! — (Кашу ест ротом бесчувственным, она ему не впрок.)
– Но какую трактовку пропустили бы иначе?..
– Ах, пропустили бы? Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!
– Гм, гм, — откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему.
Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, — и за своё:
– Но слушайте, искусство — это не что,а как.
Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу:
– Нет уж, к чёртовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!
Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной.
И Шухов, поворотясь, ушёл тихо.
Ничего, не шибко холодно на улице. Кладка сегодня как ни то пойдёт.
Шёл Шухов тропою и увидел на снегу кусок стальной ножёвки, полотна поломанного кусок. Хоть ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперёд не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать её на ТЭЦ. Запасливый лучше богатого.
На ТЭЦ придя, прежде всего он достал спрятанный мастерок и засунул его за свою верёвочную опоясочку. Потом уж нырнул в растворную.
Там после солнца совсем темно ему показалось и не теплей, чем на улице. Сыроватей как–то.
Сгрудились все около круглой печурки, поставленной Шуховым, и около той, где песок греется, пуская из себя парок. Кому места не хватило — сидят на ребре ящика растворного. Бригадир у самой печки сидит, кашу доедает. На печке ему Павло кашу разогрел.
Шу–шу — среди ребят. Повеселели ребята. И Иван Денисычу тоже тихо говорят: бригадир процентовку хорошо закрыл. Весёлый пришёл.
Уж где он там работу нашёл, какую — это его, бригадирова, ума дело. Сегодня вот за полдня что сделали? Ничего. Установку печки не оплатят, и обогревалку не оплатят: это для себя делали, не для производства. А в наряде что–то писать надо. Может, ещё Цезарь бригадиру что в нарядах подмучает — уважителен к нему бригадир, зря бы не стал.
«Хорошо закрыл» — значит, теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять, положим, не пять, а четыре только: из пяти дней один захалтыривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень, и лучших и худших. Вроде не обидно никому, всем ведь поровну, а экономят на нашем брюхе. Ладно, зэка желудок всё перетерпливает: сегодня как–нибудь, а завтра наедимся. С этой мечтой и спать ложится лагерь в день гарантийки.
А разобраться — пять дней работаем, а четыре дня едим.
Не шумит бригада. У кого есть — покуривают втихомолку. Сгрудились во теми — и на огонь смотрят. Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у печки двум–трём рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать пустился — значит, в доброй душе.
Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно.
– …Я и перед командиром батальона дрожал, а тут комполка! «Красноармеец Тюрин по вашему распоряжению…» Из–под бровей диких уставился: «А зовут как, а по отчеству?» Говорю. «Год рождения?» Говорю. Мне тогда, в тридцатом году, что ж, двадцать два годика было, телёнок. «Ну, как служишь, Тюрин?» — «Служу трудовому народу!» Как вскипятится, да двумя руками по столу — хлоп! «Служишь ты трудовому народу, да кто ты сам, подлец?!» Так меня варом внутри!.. Но креплюсь: «Стрелок-пулемётчик, первый номер. Отличник боевой и полити…» — «Ка–кой первый номер, гад? Отец твой кулак! Вот, из Каменя бумажка пришла! Отец твой кулак, а ты скрылся, второй год тебя ищут!» Побледнел я, молчу. Год писем домой не писал, чтоб следа не нашли. И живы ли там, ничего не знал, ни дома про меня. «Какая ж у тебя совесть, — орёт, четыре шпалы трясутся, — обманывать рабоче–крестьянскую власть?» Я думал, бить будет. Нет, не стал. Подписал приказ — шесть часов и за ворота выгнать… А на дворе — ноябрь. Обмундирование зимнее содрали, выдали летнее, б/у, третьего срока носки, шинельку кургузую. Я — раз…бай был, не знал, что могу не сдать, послать их… И лютую справочку на руки: «Уволен из рядов… как сын кулака». Только на работу с той справкой. Добираться мне поездом четверо суток — литеры железнодорожной не выписали, довольствия не выдали ни на день единый. Накормили обедом последний раз и выпихнули из военного городка.
…Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар — оба́я расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели… Перекрестился я и говорю: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь.»
После двух мисок каши закурить хотелось Шухову горше смерти. И, располагая купить у латыша из седьмого барака два стакана самосада и тогда рассчитаться, Шухов тихо сказал эстонцу–рыбаку:
– Слышь, Эйно, на одну закрутку займи мне до завтра. Ведь я не обману.
Эйно посмотрел Шухову в глаза прямо, потом не спеша так же перевёл на брата названого. Всё у них пополам, ни табачинки один не потратит. Чего–то промычали друг другу, и достал Эйно кисет, расписанный розовым шнуром. Из кисета того вынул щепоть табаку фабричной резки, положил на ладонь Шухову, примерился и ещё несколько ленточек добавил. Как раз на одну завёртку, не больше.
А газетка у Шухова есть. Оторвал, скрутил, поднял уголёк, скатившийся меж ног бригадира, — и потянул! и потянул! И кружь такая пошла по телу всему, и даже как будто хмель в ноги и в голову.
Только закурил, а уж черезо всю растворную на него глаза зелёные вспыхнули: Фетюков. Можно б и смиловаться, дать ему, шакалу, да уж он сегодня подстреливал, Шухов видел. А лучше Сеньке Клевшину оставить. Он и не слышит, чего там бригадир рассказывает, сидит, горюня, перед огнём, набок голову склоня.
Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без жалости, как не об себе:
– Барахольце, какое было, загнал скупщику за четверть цены. Купил из–под полы две буханки хлеба, уж карточки тогда были. Думал товарными добираться, но и против того законы суровые вышли: стрелять на товарных поездах… А билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег. Все привокзальные площади мужицкими тулупами выстланы. Там же с голоду и подыхали, не уехав. Билеты известно кому выдавали — ГПУ, армии, командировочным. На перрон тоже не было ходу: в дверях милиция, с обех сторон станции охранники по путям бродят. Солнце холодное клонится, подстывают лужи — где ночевать?.. Осилил я каменную гладкую стенку, перемахнул с буханками — и в перронную уборную. Там постоял — никто не гонится. Выхожу как пассажир, солдатик. А на путе стоит как раз Владивосток — Москва. За кипятком — свалка, друг друга котелками по головам. Кружится девушка в синей кофточке с двухлитровым чайником, а подступить к кипятильнику боится. Ноги у неё крохотулечные, обшпарят или отдавят. «На, говорю, буханки мои, сейчас тебе кипятку!» Пока налил, а поезд трогает. Она буханки мои дёржит, плачет, что с ими делать, чайник бросить рада. «Беги, кричу, беги, я за тобой!» Она впереде, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, — а поезд гону!