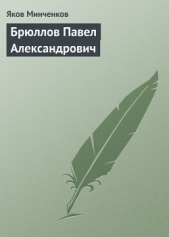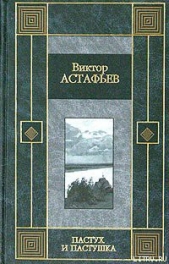Карл Брюллов
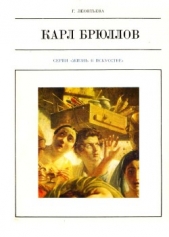
Карл Брюллов читать книгу онлайн
Жизнь замечательного русского художника первой половины XIX века К. П. Брюллова была безраздельно отдана искусству. «Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу», — говорил он о себе. Знаменитой картиной «Последний день Помпеи» он изменил укоренившиеся представления о задачах исторической живописи, в числе первых нарушил привычные каноны классицистического искусства. Своей портретной живописью он прокладывал пути реализма. Книга рассказывает о творчестве мастера, о его жизни, богатой событиями и встречами — дружба связывала художника с Пушкиным и Глинкой, Гоголем и Кукольником.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но Франция, та Франция, которую называли «умственной лабораторией Европы», не умерла. Интеллигенция все чаще обращается к политике, пусть иногда и выглядит это несколько наивно. В домах у Листа, у Жорж Санд собираются писатели, художники, музыканты, чтобы, как они говорили, «поставить социальный вопрос». Жорж Санд восклицает: «Вперед! Каков бы ни был цвет вашего знамени, лишь бы ваши фаланги шли к республиканскому будущему…» Во Франции литературно-художественная борьба была окрашена политическими мотивами. Недаром Тьер подозрительно говорил: «Знаем мы этих романтиков — сегодня он романтик, а завтра революционер». В 1834 году, в год приезда Брюллова, Тьер издал указ от имени правительства Луи Филиппа, согласно которому всякое общество, какой бы характер оно ни носило, обязано представить свой устав на рассмотрение министерства. Париж на это ущемление свободы собраний ответил бунтом, снова в Сент-Антуанском предместье начали строить баррикады…
Вот в какой сложной обстановке открылся Салон 1834 года, на котором была выставлена брюлловская «Помпея». Вместе с нею экспонировались «Алжирские женщины» Делакруа, восточные сцены Ораса Верне, немалое число классицистических полотен, где в виде римских героев фигурировали парижские натурщики. Из больших исторических полотен были выставлены «Св. Симфорион» Энгра, «Казнь Дженни Грэй» П. Делароша, «Смерть Пуссена» Гране.
Парижская пресса до решения жюри довольно сурово обошлась с русским художником. Его обвиняют и в отсутствии единого центра, вокруг которого группировались бы второстепенные фигуры, и в непривычном двойном освещении, и в недостатке патетики, и в том, что он изобразил черное облако и черный пепел… Хотя в смелости воображения, в умении передавать движение ему отказано не было. Один из авторов с ядом писал: «Мы видим теперь, что такое итальянцы называют верхом художества в живописи и, благодаря Последнему дню Помпеи, имеем перед глазами образчик того, чем на самом деле гордится эта страна в наше время». Брюллов ходит хмурый, подавленный. Он искренне огорчен, читая журналы, слушая — так неожиданно — хулу. По-детски обиженный, он вовсе потерял к Парижу интерес и, как пишет Г. Гагарин, «возненавидел Францию и французов».
В чем же дело? Почему с таким восторгом принятая во всей Италии «Помпея» в Париже не вызвала энтузиазма? Один из журналистов объяснял это тем, что парижане, слишком живо помнившие казаков русских, не могли приветить русского художника. Действительно, когда в 1822 году в Париж приехала английская труппа давать Шекспира, парижане закидали злополучных артистов гнилыми апельсинами — тогда память о Ватерлоо и победе Веллингтона была и впрямь жива. Но уже в 1824 году непризнанный на родине Джон Констебль вызвал триумф своими лирическими пейзажами, а еще три года спустя труппа Кина покорила Париж. Теперь же, спустя двадцать лет после вступления казаков в столицу, вряд ли память о них могла сыграть роль в неуспехе «Помпеи». Вернее другое. Все, кто участвовал или сочувствовал июльской революции, а таких и среди художественной интеллигенции было немало, знали, через того же Шопена, о демонстрации в Варшаве в честь русских декабристов с лозунгами «За вашу и нашу свободу», о панихиде по пяти повешенным декабристам, наконец, о жестоком подавлении польского восстания. В те дни в русском посольстве в Париже были выбиты все стекла. Цензор А. Никитенко в 1835 году писал: «Ненависть к русским за границею повсеместная и вопиющая… Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством».
И все-таки главное в оценке «Помпеи» таилось не в этом. Вместе с нею в Салоне были представлены картины, четко адресованные своему зрителю: ярко выраженные произведения классицистов, незамутненные чужеродными привкусами, откровенно романтические произведения, чуждые эстетике классицизма. Некоторые из них, как «Алжирские женщины», даже с приметами реализма. «Помпея», замешанная почти в равных дозах на рецептах классицизма и романтизма, не удовлетворяла приверженцев ни того, ни другого направления. Классицисты ругали ее, считая произведением романтического склада, а для радикальных французских романтиков она была слишком традиционной. Чтобы понять степень ожесточения классицистов против романтизма, достаточно вспомнить, что Энгр требовал, чтобы из Лувра изъяли «Плот „Медуза“» Жерико, дабы эта картина не портила вкуса, а по поводу новаторских приемов в живописи говорил: «Что хотят сказать мнимые художники, проповедующие открытие „нового“? А есть ли что-либо новое? Все уже сделано, все уже найдено. Наша цель не изобретать, а продолжать…»
Один из критиков «Помпеи» откровенно говорил, что если бы эта картина прибыла в Лувр на двадцать лет раньше — все было бы иначе. Что ж, в этом признании был свой резон. Еще в 1819 году Париж был удивлен, потрясен, обескуражен огромным полотном в семь метров длиной и в пять шириной. Под ним стояла подпись: Т. Жерико. «Плот „Медуза“». Впервые ужасное преподносилось как предмет искусства. По сути, тема Жерико была та же, что и у Брюллова: столкновение человека со стихийными силами природы. Но вот сюжет был взят (впервые для такого огромного полотна) из газетной хроники, сообщившей, что 2 июня 1816 года фрегат «Медуза» сел на камни. Плот с пассажирами одиннадцать суток мотало в открытом море, без пищи и без пресной воды. Неприкрашенная, грубая, страшная драма из обыденной современной жизни — вот что уже видели в выставочном зале парижане. После этого непросто было заразить их сочувствием к древним помпеянам… К патриотическим же чувствам французов открыто, без аллегорий и иносказаний, взывала «Свобода на баррикадах» Делакруа, написанная в 1831 году. Здесь героями были современные французы, в сегодняшних одеждах, с нынешними, насущными мыслями, чувствами, деяниями. Связь искусства с жизнью ставится на повестку дня. В недрах революционного романтизма во Франции уже постепенно зарождается реализм. Бальзак обличает буржуазное общество в «Человеческой комедии». В 1831 году окончена «Шагреневая кожа», в 1832— «Евгения Гранде». Стендаль в 1830 году опубликовал «Красное и черное». Сейчас, в год приезда Брюллова, Бальзак отправился в Саше, где по шестнадцать-восемнадцать часов в сутки работает над «Отцом Горио». Скульптор Франсуа Рюд восклицает: «Каждый шедевр — это сгусток действительности, созданный художником, умеющим видеть». Домье уже отсидел шесть месяцев в тюрьме за беспощадные карикатуры на Луи Филиппа, а теперь продолжает серии гротескных карикатур на мещанское общество послеиюльской Франции, которые сделают его родоначальником критического реализма. Самый выдающийся представитель французского реализма середины века Огюст Курбе два года назад, в 1832 году, поступил в Безансонский колледж и уже начал серьезные занятия живописью. Жизнь стремительно шла вперед…
Совсем иным было тогда во Франции и отношение к самому художественному методу, к проблеме колорита. «Художники, не являющиеся колористами, занимаются раскрашиванием, а не живописью. Живопись в собственном смысле слова, если дело идет не об одноцветных картинах, содержит в себе идею цвета как одну из необходимых ее основ наряду со светотенью, пропорциями и перспективой», — говорил Делакруа. Как далеко ушло понимание цвета от классицизма, отдававшего пальму первенства рисунку, а цвет полагавшего «украшением» рисунка! И так думали теперь не только живописцы, но и писатели, и многие из публики. Еще в 1832 году вышел в свет бальзаковский «Неведомый шедевр», где позиция нового искусства высказана очень определенно. Герой романа берет в руки палитру с заранее смешанными по рецепту классицизма тонами и говорит: «Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем, они отвратительно резки и фальшивы, — как этим писать? — Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам…» Как видим, речь тут идет о немыслимом для классицизма способе письма — художник добивается определенного цвета, не готовя тон заранее на палитре, а прямо на холсте сочетая различные краски. Мало этого, устами своего героя Бальзак призывает не ограничиваться слепым отображением внешности вещей: художник должен постичь «душу, смысл» окружающего мира. Как страстная апологетика не только романтизма, а глубинной внутренней правды искусства звучат дальнейшие рассуждения героя: «Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию, и я не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями… Для того, чтобы быть великим поэтом, недостаточно в совершенстве знать синтаксис и не делать ошибок в языке». И как заключение, как вывод, как призыв: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт!»