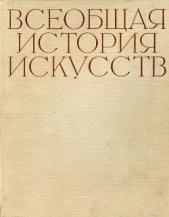Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2

Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дрезденский триптих Яна ван Эйка — это небольшое по размерам, интимное по своему духу произведение. Богоматерь с младенцем занимает его среднюю часть (88). Фигура ее в широком плаще образует пирамиду. Пирамидальная композиция у итальянцев обычно выделяет фигуру или группу и противополагает ее пространству. Наоборот, у ван Эйка пирамида, образуемая плащом Марии, продолжает линию пестрого ковра, на котором она восседает, и это лишает ее объемности, свойственной всем фигурам итальянцев и даже фра Анжелике, и превращает в составную часть интерьера.
Фигура заключена в светлую готическую капеллу, как в драгоценный ларец. Такого уютного интерьера не знали итальянцы (ср. 48). В фигуре богоматери слабо выделен объем и силуэт, зато вся картина как бы соткана из разноцветных нитей; здесь и парчевый занавес, и узорные ткани за троном Марии, и восточный ковер у ее ног, и цветные мраморные с жилками колонны, и цветное стекло окон. Впрочем, ван Эйк подчиняет все детали главной фигуре богоматери: ее темновишневый плащ и балдахин за ней выделяются сочным пятном и мешают распадению картины.
Мир не потерял для ван Эйка символического смысла, о котором толковали средневековые богословы. Едва ли не каждый предмет сохраняет таинственное, священное значение. Он видит эти предметы ясно, осязательно, во всем богатстве их цвета, но они должны вести взор вдумчивого зрителя к «тайнам мира», скрывающимся за его многокрасочной оболочкой. В старину св. Варвара изображалась с башней в руках: она считалась заступницей от огня и орудий. Ван Эйк, сохраняя этот образ, превращает башню-атрибут в настоящую башню-храм на фоне фигуры святой, крохотные фигурки людей сооружают его в ее память. В луврской мадонне ван Эйка в глубине комнаты за аркадой видны две задумчивые фигуры у балюстрады, извилистая река, мост и дома. Но все люди не случайно идут на запад, туда, где опускается солнце, где восседает небесная царица.
В превосходном портрете купца Арнольфини и его супруги (Лондон, Национальная галерея) мы заглядываем в уютный супружеский покой с любовно выписанной обстановкой, которую внимательно рассмотрел художник, согласно надписи, присутствовавший здесь в качестве свидетеля. Но все предметы исполнены тайного значения: на канделябре при свете дня горит свеча; на окне лежит яблоко — знак райского блаженства; на стене висят четки — знак благочестия; щетка — знак чистоты; вдали виднеется брачная постель. Даже домашняя собачка наводит художника на мысли о супружеской верности. Таким образом, в написанном с живых людей портрете проступают черты средневекового надгробия, сходство о возлежащими на смертном одре фигурами и псом у их ног. Недаром и вещи, хотя и расставлены по своим местам, венком окружают обе фигуры. В изображении’ собачки передан каждый волосок ее густой шерсти, и все же она кажется застывшей, не связанной с другими предметами, существует как знак. Но самое примечательное свойство портрета это то, что сквозь его символический замысел проглядывает такая душевная теплота, такое чувство домашнего уюта, такая нежность и любовь в жестах и в взаимоотношениях обоих супругов, что ван Эйк через голову своих современников и ближайшего потомства предвосхищает лучшие достижения· голландской живописи XVII века.
В большинстве своих портретов ван Эйк целиком отдавался своим непосредственным впечатлениям. Но обыкновение не ограничиваться передачей внешней видимости, придает его портретам особую глубину. Его глаз выработал в себе привычку остерегаться скороспелых обобщений, сближений индивидуального лица с общечеловеческим типом. В этом он шел совсем иным путем, чем тот, о котором говорит Альберти и которому обычно следовали итальянцы. Ван Эйк был одним из самых «объективных портретистов» в истории искусства: его портреты еще меньше похожи друг на друга, чем даже портреты Рембрандта или Веласкеса. Но он был далек, от холодного аналитического бесстрастия, которое стало достоянием портрета нового времени. В каждом его портрете чувствуется, как он самозабвенно и любовно стремился понять человека, повсюду заметно, что всякая форма и в том числе форма человеческого лица служит для него знаком, исполненным глубокого смысла. Перед нами проходят благочестивый, немного ограниченный Вейдт, цинический и сердитый канцлер Ролен, грубо жестокий кавалер Золотого Руна, трогательно невзрачный Тимофей, обаятельно изящный Арнольфини, увековеченный в погрудном портрете в своем алом тюрбане, наконец, умная, уверенная в себе супруга художника.
Особенно обаятелен портрет кардинала Альбергати (11). Художник рисовал его с натуры, как можно судить по сохранившемуся рисунку, и сумел всю свежесть своих впечатлений перенести и в картину. В мелких складочках веером около уголков его глаз и в улыбке на его губах ван Эйк передал едва уловимую стариковскую хитрость и стариковское добродушие. Он пользуется изумительно тонкой, неведомой итальянцам живописной техникой, нежно и прозрачно накладывает краски, избегая резких контуров (ср. 65). И вместе с тем портрет превосходно построен, в нем сильнее подчеркнуты существенные, и слабее выражены второстепенные частности, все они вместе подчинены общему впечатлению. В своем профильном портрете старого герцога Урбинского (Уффици) Пьеро делла Франческа сближает его облик с типом римской медали и этим как бы заносит в определенный разряд людей. Наоборот, портрет ван Эйка поражает полным отсутствием всякой предвзятости. Сходным образом историки бургундского двора, особенно Шастеллен, смотрят на современный мир, не думая о высоких римских образцах и прообразах, которые вдохновляли итальянских гуманистов. Шастеллен «портретирует» речи отдельных лиц, передает интонацию каждой их реплики. Читая его повествование о ссоре Филиппа Доброго с сыном, кажется слышишь их голоса, их любимые словечки и выражения, видишь вспыльчивость отца и непреклонность сына, как будто это пишет не историк, а романист. Перед портретами ван Эйка можно сказать, что это не искусство, а сама, жизнь, не умаляя при этом творческой активности мастера.
Как это часто бывает, ван Эйк, первый взглянувший на мир под новым углом зрения, смог увидать его во всей его цельности, во всем богатстве и разнообразии. Искусство первого нидерландского реалиста более полнокровно и жизненно, чем искусство его ближайших наследников. В этом он разделяет судьбу Мазаччо и Донателло, которые занимают сходное место в истории итальянского искусства.

11. Ян ван Эйк. Портрет кардинала Альбергати. Ок. 1432 г. Вена, Художественный Музей.
Среди нидерландских мастеров XV века только один Петрус Кристус непосредственно примыкает к традиции Яна ван Эйка. Более широкое распространение получает то направление, которое характеризует творчество Кампена. Рогир ван дер Вейден (ум. 1461) полнее всего представляет это направление. В его искусстве нет того умиротворенно-радостного приятия мира, той теплоты и полнокровности, которой так чарует ван Эйк. Искусство Рогира более напряженно, холодно, резко и даже угловато. Он часто изображал сюжеты наставительного значения. В его картине «Семь таинств» (Антверпен) живые бытовые картины подчинены богословской идее. Он посетил Италию, и итальянские впечатления оставили свой след в его творчестве. Но он был склонен к экзальтации, к сильным, резким движениям, особенно в выражении отчаяния и горя. Вместе с тем искусство Рогира с его врезывающимися в памяти типами оказалось более общепонятным, чем глубоко индивидуальное искусство Яна ван Эйка, и потому именно Рогир оставил более глубокий след в Нидерландах и Германии.
Большинство фигур Рогира ван дер Вейдена исполнено порыва, стремительности. В «Мадонне с канцлером Роленом» ван Эйка обе фигуры спокойно сидят друг против друга. В аналогичной композиции Рогира «Мадонна и Лука» (Мюнхен) Лука склоняется перед Марией, движение пронизывает его тело, широкий плащ Марии тянется за ней, будто она куда-то стремится. Линия играет у Рогира большую роль, чем у ван Эйка. Линейный ритм связывает фигуры, проходит сквозь его многофигурные композиции. В «Встрече Марии и Елизаветы» длинная одежда Елизаветы словно продолжается в извивах дороги.