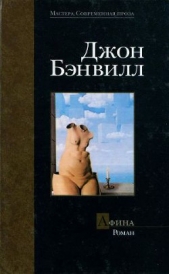Афина Паллада

Афина Паллада читать книгу онлайн
В этой книге Андрея Губина читатель найдет рассказы о великих мастерах искусства и литературы — Фидии, Данте, Рабле, Лермонтове, Л. Толстом, Дж. Лондоне, Ал. Грине. Это рассказы-легенды, основанные на неких достоверных фактах и событиях. В них не следует искать строго научного, биографического материала. Что переживал Лев Толстой в часы своего знаменитого побега от мира ? Была ли у Джека Лондона такая любовь, как говорит Губин? Важно только помнить: рассказы эти, скорее, об искусстве, творчестве, его отдельных моментах и законах, нежели о том или ином художнике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Секки благодарно улыбнулась:
— У вас в Москве случайно никого нет?
— Есть, — помедлил Саид. — Дядя — начальник железных дорог, наверное, слыхали, большой человек.
— Мне подарок надо передать.
— Кому?
— Сейчас расскажу… Маму я недавно похоронила. На тысячу новых делали поминки — угощение разносили по всем домам. Ее шали, платья, шубы раздали по закону — кто нуждается. Одну вещь пока не отдала. Моя мама славилась как главный мастер валять башлыки. В последние дни она сказала: «Секки, меня тянет спать в темноте. Принеси мой станок и лучшей шленской шерсти. Сделаю последний башлык. Умру — отдашь самому сильному джигиту, пусть сто лет носит, поминает». Нелегкой была ее жизнь. Ее руки столько сделали…
Щелкнул замок сумочки с индийскими пагодами и птицами. Секки развернула алый с черными кистями башлык тонкого сукна.
— Вах! — залюбовался горец.
— Космонавту надо подарить, — сказала Секки.
— Дядя, наверное, знает адрес, можно написать.
Подошла хозяйка. Приложила башлык к лицу, стала рассказывать о матери Секки.
— Болтовней сыт не будешь! — крикнул хозяин, с молитвой раздувая огонь. — Таус, принеси гостю еды!
Хозяйка ушла.
— Семейной жизнью живете или как? — сорвалось с языка густо покрасневшего чабана.
— Год уже замужем. А дети никак не завязываются. — Она вздохнула. — У вас есть дети?
— Двое.
— Счастливый вы, и жена ваша счастливая. По закону после свадьбы нельзя год показываться на людях, но я в магазине работаю — куда спрячешься? Муж не ревнивый попался, тихий, курит да молчит.
— Кто же он? — нехорошо любопытствует чабан, терзаясь, что поступает неправильно, так долго разговаривая с женщиной, да еще замужней.
— Муж-то слесарь… Чабаном все мечтает пойти, да руки нету.
— Чабаном не просто! — отрезал Саид. — Лет пять в подпасках походи. Голову надо иметь. Отара не машина. Если пойдет, могу слово сказать начальникам. У меня рука есть, все знакомые. Муратов я. Ни в чем не отказывают мне.
— Далеко работаете?
— Теперь, в зиму, на Черные земли отару поведу. Большое это дело — отара. Некоторые думают: пойду чабаном, деньги хорошие там, а того не думают, что чабану науку знать надо и работать, как наука требует.
— Мы журнал выписали по овцеводству, — потупилась от упреков Секки.
— Дом имеете? — совсем разболтался отпускник.
— Нет. У него живем. Золовку замуж выдали. Ух, какая свекруха у меня! Старого закала мусульманка! Пилит с утра до ночи. У тебя, говорит, шею видно из платья, русские косынки носишь, бессовестная, а чулки твои капрон все равно сожгу: через них все тело видно…
— Скоро ты там? — кричит хозяин на жену, спустившуюся в подвал. — Такую за смертью посылать только!
— Каждую новую кинокартину, — говорит Секки, — свекруха сама смотрит, потом решает, можно мне или нет. И большинство картин бракует. Хасан посмеялся: сама, мама, смотришь ведь! Ух, она зарезаться хотела, кинжал хранит. Очень темная женщина. Как сто лет назад.
— Хозяйство держите? — Саид выложил именные часы — на крышке врезано: «Лучшему чабану Киргизии Саиду Муратову от Президиума Верховного Совета КССР».
— Две коровы у нас, пятнадцать овец, птицу разводим. — Она искоса читает надпись на часах. — Шапочки пуховые на продажу вяжем. Вот телевизор купить не можем. Свекруха сказала: горло себе перережу, если в дом внесете греховную машинку, там голых людей показывают, вдруг ночью они из телевизора выйдут в комнату! И все трое ходим на телевизор к соседям. Прямо житья нету, хоть развод бери!
— По шариату разве можно?
— Разводятся, которые отчаянные.
Хозяйка принесла творог в марле, яйца, свежие лепешки и чайник, выкованный хозяином дома. Секки ела с аппетитом. Видя вольномыслие Саида, хозяин не захотел прослыть старовером. Принес кувшин вина. Покосился, налил и женщинам. Секки даже не взглянула на медную стопку, просто сказала:
— Это грех, в Коране написано.
Кизиловое вино преобразило хозяина. Он говорил без умолку. Полились воспоминания добрые и недобрые. Медь в яме остывала. Саид не любил болтать и хвастаться. Но сейчас, рядом с красивой женщиной, он хмелел и тоже рассказывал о себе…
Вспомнилось, как его, десятилетнего, разбудил громкий стук. В сакле еще пахло кизячным дымком и бараньим салом: вечером пекли лепешки из кукурузной муки, смолотой на ручной самодельной мельнице.
Месяц высоко плыл над горами. Шумела река. Отца дома не было. Мать прижала к себе детей и не подходила к двери. С ужасом смотрела на прыгающий в кольце крючок. Старый Мухадин молился в углу на коврике.
Тикали ходики. Чуть тлели угли в очаге. Поблескивало на стене отцовское ружье. Саид взялся за приклад, но мать оттащила сына.
Дверь затрещала, повалилась, ударив мекнувшего козленка. По лицам горцев полоснул луч карманного фонарика — Саид мечтал о таком.
Вошел низкий, плечистый солдат с азиатским разрезом глаз. Опрокинул швейную машину. Выругался. Длинными сильными руками потащил женщину и старика из сакли.
По всему балкарскому аулу двигались столбы света от рычащих грузовиков. Солдаты пересчитывали людей. Неслись крики, слова команды, молитвы и проклятья.
Ледяной лунный свет лежал на серебристых от инея горах, на необъятной горечи Вселенной.
Держась за юбку матери, Саид бежал по вымоинам каменистой дороги. Крепко сжимал ручонку младшего Али. Маленького Сафара мать несла — он безмятежно спал.
Солдат толкнул на машину мать с ребенком и деда.
— Мама! — кричали оставшиеся внизу дети.
Солдат гнал их к другой машине. Они вырывались, кусались, как зверьки. Пришлось надавать им тумаков.
На обочине кричал мальчишка лет четырех, уже отбитый от матери. Слегка прихрамывая, к нему подошел другой солдат, тоже скуластый, в шинели, с автоматом. Положив руку на голову мальчишке, успокаивал:
— Ну, чего ты, мама твоя здесь, не плачь…
Свет упал на его лицо. Саид увидел терпеливые серые глаза, глубоко запавшие под заиндевелыми бровями.
— Ронин! — крикнул первый автоматчик. — Тащи его сюда!
— Напрасно ты его с матерью не посадил — совсем пацанчик!
— Змею ласкаешь? Гладишь?.. Мою семью немцы бензином облили… Сволочи!
Второй солдат неловко опустил руку, пошел к следующей сакле.
Мальчишка смолк, побежал следом. Сероглазый сделал вид, что не замечает его.
В горах Кавказа нашлись недовольные Советской властью муллы и беки.
Еще до прихода немцев они покрасили бороды в рыжий пламень и ушли в пещеры, с Кораном в руках, в добровольное изгнание.
Им казалось: в изгнании набираешь высоту. Чем длительней оно, тем фанатичнее становится дух. Чем теснее пещера, тем беспредельнее открываются горизонты одиноким шихам, то есть посвященным.
Они не пили спиртного, не касались женщин, омывались ледниковой водой. Там, за облаками, с ними жили альпийские совы и другие сумеречные крылатые твари. Преданные исламу старики носили им ячмень, мед, брынзу.
Шихи раздували в своих сердцах зеленый огонь священной войны против неверных. Они хотели метнуть сухие искры в селения, чтобы горы Кавказа наново перепахать алой сталью газавата, повернуть колесо истории.
Они передавали со стариками якобы сбывшиеся пророчества Корана. Шихи чтили аллаха, пророка, Гази-Магомеда и его ученика Шамиля.
Гази-Магомед, имам Дагестана, сто с лишним лет назад ходил по аулам без страха, без шашки, без золота. Он проповедовал войну с богатыми и знатными мусульманами прежде, чем произнес пылающее слово «газават». Он презирал грязных мулл, несовершенство толпы, мерзкие спальни ханов и шахов. Он был другом бедных саклей, заступником угнетенных. И его убили.
Шамиль, имам, боролся за национальное единство и свободу горцев. Однажды он въехал в аул, где возле мечети стояла толпа. Старейшины собирались наказывать плетями бедняка за долги. Шамиль вошел в мечеть, поговорил с богом и сказал: