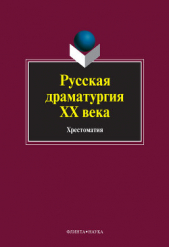Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе

Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе читать книгу онлайн
Хрестоматия адресована школьникам, изучающим советский период российской истории. Ее авторы — выдающиеся русские писатели, поэты, мемуаристы, неприемлющие античеловеческую суть тоталитаризма. Их произведения, полностью или фрагментарно представленные в этой книге, образуют цельное историческое полотно. Одновременно она является учебным пособием по русской литературе ХХ века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Разумеется, узнаем, — говорит Юрий. — Каждый из нас может сделать простой расчет с помощью обыкновенной арифметики и данных, официально опубликованных. Население страны составляло в 1917 году что–то около 140 миллионов. Средний процент демографического роста по Союзу статистика дает как 1,7, иначе говоря, прирост за год — 2 миллиона 380 тысяч. С 1917 года по 1940–й — 23 года, умножим 2 миллиона 380 тысяч на 23, получаем 54 миллиона 740 тысяч, прибавляем их к 140 миллионам — это будет 194 миллиона 740 тысяч. Такова цифра, представляющая количество населения Союза в 1940 году.
– Почему в 1940–м?
– Потому что в 39–40–м годах было присоединено множество территорий и стран. Это дает что–то около 20 миллионов. Стало быть, вместе получается 214 миллионов 740 тысяч. Это ясно?
– Ясно, ясно.
– Так. Теперь умножим 214 миллионов 740 тысяч на 1,7 и, получим 3 650 580 новых граждан в год. С 1940 по настоящий 1955–й — 15 лет, умножим на 3 650 580, получается 54 миллиона 758 700, прибавляем к 214 740 000 и получаем общий результат 269 498 700, — скажем, 270 миллионов населения. Но вы, как и я, читали в газетах, что население этой страны 200 миллионов.
Холодный пот выступил у всех на лбу. Мы онемели от этой простой логики.
– Юрий, — сказал дрожащим голосом Морозов, — не хватает 70 миллионов. 70 миллионов мертвых?
Арман Малумян (Франция), 1978 год
* * *
В одном из кривых арбатских переулков стоит и до сих пор большое красное кирпичное здание. Когда меня впервые привели туда, это была уже обыкновенная советская школа одного светлого, но теперь уже совсем забытого профессорского имени. А лет семь до того тут была гимназия, принадлежавшая тоже профессору, и тоже именитому.
Гимназию эту профессор построил по последнему слову тогдашней педагогической индустрии — высокое светлое парадное с разлетающимися дверями, триумфальная лестница под красными дорожками. Двусветные рекреационные залы с турниками («В здоровом теле здоровый дух!» Профессор преподавал римское право). Классы. Лаборатории. Школьный музей. А вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительские, святая святых — кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина (Державин слушает молодого Пушкина), стоял стол стиля ампир с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками и под прямым углом к нему другой стол, весь уставленный сухарницами и продолговатыми фаянсовыми блюдами в виде большого листа.
Здесь собирался педагогический совет.
А рядом была другая комната — лакейская, что ли, то есть я не знаю, как ее называли тогда, но в ней на полке рядком стояли орденоносные самовары, причем одни необъятной величины; был буфет с посудой, мельхиором, ведерочками для шампанского и подносами. Отсюда во время совета чинно и величественно выходил личный служитель профессора с бакенбардами, а за ним его жена, спокойная тощая старушка, и они разносили чай. (Я их хорошо помню, они жили где–то рядом и часто приходили посидеть в передней и поговорить о прошлом.)
На этот пятый этаж, по словам старых служителей, не смел подыматься без вызова ни один из учащихся. Здесь и воздух был иной. По утрам кабинет спрыскивали хвойной водой из пульверизатора. Так вот, когда я пришел в школу, самой страшной комнатой был не этот кабинет — в нем сидела заведующая, — а лакейская комната с бумажкой, написанной от руки: «Учком. Ячейка РКСМ».
Ты был председателем учкома. Заведующая все наши немощные души поручила тебе и ни во что не вмешивалась. Учителей тоже отсылала к тебе — ты один казнил и миловал. И скоро каким–то ловким маневром переселил заведующую в лакейскую, а сам занял кабинет директора.
Заведующая была старая дама, фальшивая и лживая, она носила на шее бархоточку и черный медальон с алмазным сердечком. Любила, когда на школьных вечерах читали Бальмонта и «Белое покрывало», но нюх у нее был собачий, то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство.
А впрочем, кем же ты был, как не ее прямым начальством? Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драмкружка, еще кто–то, сильный, здоровый, скуластый, высокий, с бескровным кремовым лицом (у меня был такой башлык), в крагах и кожаной куртке!
Никто не знал, откуда ты взялся и кто тебя взял. Официально тебя, конечно, выбрали, но мы все отлично знали, что тебя никто не выбирал. Ты просто появился, и всё тут. Ты появился и стал ходить по школе, по всем пяти этажам ее, всё засекать, всё усекать, во всё проникать. Ты говорил, проходя мимо кого–нибудь из нас: «Зайди–ка ко мне во время большой перемены», — и мы сразу же обмирали. А чего нам, кажется, было бояться? Ведь всё это происходило не в царской гимназии, а в честной советской трудовой школе. И вызывал нас опять–таки не классный инспектор, а товарищ, наш товарищ.
Вот это была первая и самая гнусная ложь. От нее шли все остальные лжи — и крохотные, и побольше, и, наконец, та наибольшая, во имя которой ты и возник, Эдинов. Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял — кто же ты в самом деле? Просто, как пишет Достоевский, «мальчишка развитой и развращенный» (этот тип я постиг вполне) или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым — тоже еще на свет не родившимся (писатели двадцатых годов еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги тридцатых и пятидесятых годов).
Во всяком случае, ты был весь обращен в будущее. И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а какой–то очень–очень косвенной линии. Кто этот в самом деле бедный, злодейски убиенный пацанок? Не о таких ли написал Гёте: «Du, armes Kind, was hat man dir gethan» [20]. Представь, я до сих пор не знаю этого. Я только вижу, чем всё это кончилось. А начиналось всё вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас и осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали язык и убегали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. «Во–первых, — приказал ты, — надо составлять акт и подавать в учком», во–вторых, вслед за девочкой шел верзила — он хватал меня за шиворот и волок в учительскую.
Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников ты стал набирать в тройки самых отпетых — хулиганов, ловчил, тупиц, — было бы мальчишеской совести поменьше да кулаки побольше. И всё переменилось. Эта шобла была тебе предана, как шайка молодых щипачей своему тертому пахану, и поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых. И исчезли все безнадежные, успеваемость скакнула чуть не на сто процентов (наши бедные педагоги боялись тебя больше, чем мы). Так ты весомо, грубо и зримо продемонстрировал силу товарищеского воздействия, мощь коллектива и талант руководителя.
И что по сравнению с тобой, действительно, стоили все демоны и бесы старой гимназии! Они были просто глупы и беспомощны! Им лгали с истинным упоением и вдохновением. А тебе не врали. Ты быстро покончил с этим ремесленничеством. Любой староста отвечал на любой твой вопрос: о чем ты его спрашивал, о том он и рассказывал. О родном брате и то рассказал бы. И попробовал бы тот его тронуть! Ого! Ты и с этим покончил сразу же.
Правда, старички постарше, из тех, кто еще от отцов слышал о каких–то былых традициях товарищества — не об этих, которые так успешно насаждал и насадил ты, а о тех допотопных, когда человек был еще человеку не «друг», а иногда враг и друзья объединялись и блюли друг друга, — те могли еще увернуться от ответа или просто соврать. Но малыши были честны, неподкупны и суровы — они всё несли в учком к его председателю в кожанке и поскрипывающих крагах… Бог знает, куда ты всё это нес, Георгий Эдинов. Но во всяком случае все наши немощные души ты крепко держал в кулаке. Вернее, в клеенчатой общей тетради, этакой книге живота нашего.