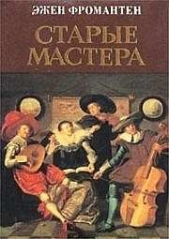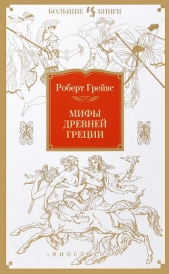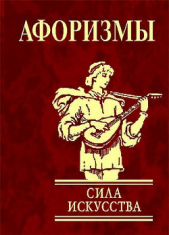Философия искусства
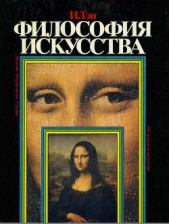
Философия искусства читать книгу онлайн
Автор этой в свое время одной из самых популярных книг по истории и теории изобразительного искусства выдающийся французский философ и историк Ипполит Тэн (1828—1893) по праву считается классиком мировой искусствоведческой мысли. Впервые она была выпущена в 1880 г. на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864—1869 гг. в парижской Школе изящных искусств. С присущим ему литературным мастерством Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события Древней Греции, Италии и Нидерландов в средние века и в эпоху Возрождения, показано их влияние на развитие культуры. Печатается в переводе А. Н. Чудинова по изданию, выпущенному в Санкт-Петербурге в 1904 г. Имена и фамилии, названия художественных произведений даются в современной транскрипции. Для всех, кто интересуется проблемами теории и истории мирового искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В ИТАЛИИ
(посвящается Эдуарду Бертену)
От автора
Милостивые государи!
В прошлом году, в начале курса, я изложил вам тот закон, по которому во все вообще времена возникают художественные произведения, т. е. точное и неизбежное соответствие, какое мы всегда найдем между произведением и его средой. В этом году, следя историю живописи в Италии, я нахожу особенно удачный случай применить и проверить перед вами этот закон.
I
Объем и пределы классической эпохи. — Характер предшествовавшей поры. — Характер последующего времени. — Кажущиеся исключения. — Как они объясняются.
Характерные черты классической живописи. — Чем она разнится от фламандской. — Чем отличается от первобытной живописи. — Чем от современной. — Главный предмет ее — идеальное человеческое тело.
Мы приступаем к той славной эпохе, которую единогласно признают самой прекрасной порой итальянского творчества и которая, вместе с последней четвертью XV века, обнимает тридцать или сорок первых лет XVI века. В этом тесном, небольшом кругу блистают имена превосходных художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Джорджоне, Тициана, Себастьяно дель Пьомбо, Корреджо; и круг этот резко ограничен; переступите его в ту или другую сторону — вы встретите или незаконченное еще искусство, или искусство уже испорченное, по эту сторону грани — невыработавшиеся еще искатели, сухие и малогибкие, Паоло Учелло, Антонио Поллайоло, Фра Филиппо Липпи, Доменико Гирландайо, Андреа Верроккьо, Мантенья, Перуджино, Джованни Беллини; по ту сторону — преувеличивающие ученики или плохие восстановители, Джулио Романо, Россо, Приматиччо, Пармиджанино, Пальма Младший, Карраччи и их школа. Сперва искусство только еще прозябало, после оно стало увядать; полный цвет его пришелся в промежутке и длился около пятидесяти лет. Если в предшествовавшую эпоху и встречается какой-нибудь почти совершенный живописец, Мазаччо например, то это выскочивший в гении мыслитель-художник, одиночный изобретатель, вдруг глянувший далее своего времени, непризнанный предтеча, за которым никто и не следует, чья даже могила осталась без надписи, который жил беден и одинок и чье преждевременное величие будет понято лишь спустя полвека. Если в последующую эпоху и найдется цветущая, здоровая еще школа, то единственно лишь в Венеции, в этом привилегированном городе, для которого упадок настал позднее, чем для всех других, и который отстаивал свою независимость, терпимость и славу долго еще спустя после того, как завоевание, гнет и окончательное развращение унизили души и извратили умы во всей остальной Италии. Эту эпоху прекрасной и совершенной изобретательности вы можете сравнить с полосой, где на горном скате разводят виноград: внизу он еще нехорош, вверху он перестал быть хорошим. В низине воздух слишком тяжел, на верху он слишком холоден — такова причина и таков общий закон; если бывают исключения, они незначительны, и притом всегда объяснимы. И внизу может встретиться какая-нибудь одиночная лоза, которая, благодаря превосходным сокам, даст отличные гроздья наперекор окружающей среде. Но лоза эта так и будет одинока, она не произведет себе подобных и останется одной из тех странностей, какими напор смутно действующих сил всегда случайно прерывает правильное течение законов. На самом верху, в каком-нибудь закоулке, попадутся, может быть, несколько отборных лоз; но вы найдете их в одном этом уголке, где особенного рода обстоятельства, качество почвы, вполне обеспеченное затишье, действие просачивающегося там ключа доставят растению такую именно пищу и защиту, каких нет налицо в других местах. Таким образом, закон останется неприкосновенным, и мы выведем отсюда заключение, что успешный рост виноградных лоз связан с особенным родом почвы и температуры. Так же точно непоколебим и закон, управляющий возникновением великой живописи, и мы смело можем искать умственное и нравственное состояние, от которого она зависит.

Прежде всего, надо определить ее самое, ибо, называя живопись общепринятым именем изящной или классической, мы не обозначаем этим ее характеристических признаков — мы указываем лишь иерархическое ее место. Но, если она занимает определенное место, то у нее должны быть и отличительные признаки, т. е. свойственная ей область, из пределов которой она никогда не выступает. Она презирает или пренебрегает пейзажем; великая жизнь неодушевленных предметов найдет для себя живописцев только во Фландрии; итальянский живописец избирает сюжетом своим человека; деревья, сельский вид, фабрики составляют для него только второстепенные принадлежности, аксессуары; Микеланджело, бесспорный глава всей этой школы, объявляет, по словам Вазари, что их, как забаву, как мелкое вознаграждение, следует предоставить меньшим талантам и что истинный предмет искусства есть человеческое тело. Если позже художники обращаются к пейзажам, то это только в эпоху последних венецианцев, в особенности при Карраччах, когда великая живопись уже падает; да и употребляют они их только в качестве декораций, вроде какой-нибудь архитектурной виллы, сада Армиды, театра для пасторалей и торжественных празднеств, благородно-сдержанного аксессуара мифологических галантерейностей и барских развлечений; там вымышленные деревья не принадлежат ни к какой известной породе; горы располагаются для привлекательности зрелища; храмы, развалины, дворцы группируются в идеальных очертаниях; природа теряет свою врожденную независимость и свои собственные инстинкты, с тем чтобы подчиниться человеку, служить украшением его празднеств и расширить его хоромы.


С другой стороны, они предоставляют еще фламандцам подражание действительной жизни, предоставляют им современного человека в обычном его костюме, среди повседневных его привычек, среди его домашней утвари, на гулянье, на рынке, за столом, в городской думе, в кабаке, такого, каким видишь его сплошь своими глазами, — дворянина, мещанина, крестьянина, с бесчисленными и резкими особенностями его характера, его ремесла и звания. Они устраняют все эти черты как нечто пошлое; по мере совершенствования своей живописи они все более и более избегают буквальной точности и положительного сходства; перед самым именно началом великой эпохи они перестают допускать в свои картины портретные изображения; Филиппо Липпи, Поллайоло, Андреа дель Кастаньо, Верроккьо, Джованни Беллини, Гирландайо, даже сам Мазаччо, не говоря уж о предшествовавших живописцах, испещряли свои фрески лицами современников; великий шаг, отделяющий окончательное искусство от искусства первоначального, и есть именно изобретение тех совершенных форм, которые открываются только душевному зрению и которых никогда не встретишь плотским глазом. Отмежеванное таким образом поле классической живописи должно еще более ограничить. Если в идеальной личности, которую она избирает своим центром, мы отделим мысленно дух от тела, то заметим сей же час, что не духу предоставляет она первое место. Она не отличается ни мистицизмом, ни драматизмом, ни спиритуализмом. Она не думает изобразить для света бестелесный и выспренний мир, восторженные и чистые души, богословские и церковные догматы, которые со времен Джотто и Симоне Мемми вплоть до Беато Анджелико занимали собой дивное, но не совершенное искусство предшествовавшей эпохи; она покинула христианский и монашеский период и вступила в период светский и языческий. Она не думает развернуть на полотне жестокую или прискорбную сцену, способную вызвать ужас и сострадание, как делает Делакруа в Убийстве Люттихского епископа, как Декан в Покойнице или в Битве кимвров, наконец, как Ари Шеффер в своем Плаксе. Она не думает выразить глубокие, чрезмерные, многосложные чувства, подобно Делакруа в его Гамлете или в его Тассе. За сильно оттененными или могущественными эффектами погонится она только в позднейшую эпоху очевидного упадка — в чарующих и мечтательных Магдалинах, в задумчивых и нежных мадоннах, в трагических и надрывающих душу мученичествах Болонской школы. Патетическое искусство, стремящееся поразить и потрясти болезненно-возбужденную чувствительность, противно дорогому ей равновесию. Нравственная жизнь не захватывает ее в ущербе физической; она не представляет человека каким-то высшим существом, которого предают на жертву чувственные его органы; один только живописец, преждевременный изобретатель всех идей и всех особенностей, интересующих новейшее время, только Леонардо да Винчи, всеобъемлющий и утонченный гений, одинокий и ненасытный искатель новизны, заходит в своих прозрениях за пределы той эпохи и идет иногда навстречу нашей. Но для других артистов, да часто и для него самого, форма составляет цель, а не средство; она не подчинена физиономии, выразительности, жестам, положению, действию: задача этих художников чисто живописная, а не литературная и не поэтическая. ’’Для пластического искусства, — говорит Челлини, — главное дело отлично изобразить нагого мужчину и нагую женщину”. В самом деле, почти все тогдашние мастера берут исходной своей точкой ювелирное искусство и скульптуру; они выщупали руками весь многоразличный рельеф мышц, проследили изгиб всех линий, осязали суставы и связки всех костей: прежде всего хотят они представить глазам естественное человеческое тело, я разумею — здоровое, деятельное, энергическое, наделенное всеми атлетическими и животными способностями; притом это должно быть идеальное человеческое тело, близко подходящее к типу греков, до того соразмерное и уравновешенное во всех своих частях, схваченное и установленное в столь счастливой позе, драпированное и окруженное другими телами в такой удачной группировке, чтобы совокупность всего вместе составляла гармонию и чтобы целое произведение напоминало собой телесный мир, подобный древнему Олимпу, т. е. божественный или героический, во всяком случае, высший и совершенный. Таковая была собственная изобретательность этих художников. Другие умели, пожалуй, лучше выразить кто сельскую природу и быт, кто правду действительной жизни, кто трагические и глубокие движения души, кто нравственные уроки, исторические открытия или философские замыслы; у Беато Анджелико, Альбрехта Дюрера, Рембрандта, Метсю и Паулюса Поттера, у Хогарта, Делакруа и Декана вы найдете больше назидательного, больше педагогии или больше внутреннего и домашнего затишья, больше напряженных грез, величавой метафизики или душевных волнений. Но художники первой поры Возрождения создали единственную в мире породу рослых, благородных тел, благородно же и живущих; они дают нам угадывать человечество более гордое, светлое, деятельное — одним словом, лучшее, нежели наше. От этой породы, в соединении с ее старшей сестрой, дочерью греческих ваятелей, произошли в других странах, во Франции, в Испании, во Фландрии, те идеальные фигуры, которыми человек словно поучает природу, каким она должна была создать его и каким не создала.