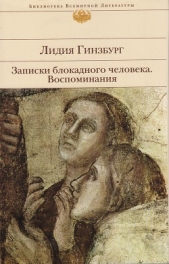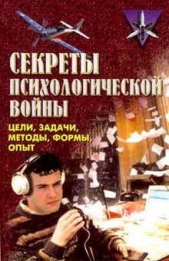О психологической прозе

О психологической прозе читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"...Я имею добрых друзей, - пишет он в 1837 году В. А. Дьяковой, которые готовы сказать, что мои потребности слишком обширны, чтобы могли удовлетвориться, слишком сильны, чтобы оставить меня в покое. Неправда! Моя голова была сбита с толку, душа пуста и ослаблена... Я не имел определенного желания, и потому удовлетворять было нечего; я хотел перерождения, которое бы мне дало самые потребности... И такая, слабая, убитая Душа могла любить? - отделенная от мира - Schone Seele 3 - она создавала себе бледные образы и потом искала им подобия между людьми... Встреча, ошибки, противоречие, кризис - были необходимы. Я понял свое положение, свое прежнее ничтожество, но заменивши его ничем; я проклял эту Schonseeligkeit 4 в не сошелся с миром; от этого - сухая борьба, отнявшая у меня столько времени и сил, - и теперь еще не могу я освободиться от этого рабского сомнения, от этих мучительных мыслей, которые вяло и мучительно работают в голове..." ("Переписка...", 723). Сухость, вялость - для Станкевича это идеологические грехи и в то же время физически мучительные состояния. Через три года в письме к той же В. Дьяковой Станкевич утверждал, что она найдет в нем "гомункула, парящего между небом и землею, ощущающего свою стеклянную лачужку и не обладающего достаточною силою для того, чтобы разбить ее..." ("Переписка...", 738). Речь здесь идет о гомункулусе, выведенном в колбе искусственном человечке из второй части гётевского "Фауста". Но образ бессильного существа, "парящего между небом и землею", очень близок и к "Недоноску" Баратынского; это стихотворение в 1835 году напечатано было в "Московском наблюдателе" (позднее оно вошло в сборник "Сумерки"), и Станкевичу должно было быть известно.
1 Потустороннее (нем.).
2 Нечто (нем.).
3 Прекрасная душа (нем.).
4 Прекраснодушие (нем.).
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал в плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Кто же был прав - современники Станкевича, увидевшие в нем безупречного рыцаря духа, или он сам со своим самообличением? Станкевич несомненно был таким, каким знали его друзья, - человеком великой правдивости и изящной простоты. Но Станкевич не был склонен обыгрывать своп достоинства. Он был сосредоточен на другом. Он непрестанно соизмерял себя с идеей всепроникающей любви и всеохватывающих потребностей, и находил, что не дотягивает. Он открыл в себе, придав им значение этических качеств, сухость, холод, недостаточность духовной энергии и воли. Преодоление этих качеств стало отправной точкой для той личной психологической и моральной программы, над которой Станкевич работал до последних дней своей жизни.
Душевная жизнь Станкевича и формы ее осознания явно уже тяготеют к будущему русскому психологизму с его моральной проблематикой. Еще дальше в этом направлении продвинулся Белинский. Он считал, что он бесконечно многим обязан Станкевичу, и в делах своей "внутренней жизни" постоянно на него оглядывался. Но у Белинского противоречия достигали остроты столь нестерпимой, что требовали выхода и решений, а решения всегда были крайними. Именно потому письма Белинского 30-х и начала 40-х годов - единственный в своем роде памятник становления нового исторического сознания 1.
1 Письмам Белинского специально посвящены: "Переписка Белинского (критико-библиографический обзор)" - в кн.: Литературное наследство, т. 56; статья М. Полякова "Вся жизнь моя в письмах" - в кн.: Поляков Марк. Поэзия критической мысли. М., 1968.
2
Психологические открытия, которые на данном этапе в законченной форме еще невозможны в устоявшихся, канонических жанрах, которые в них только пробиваются к свету, возможны уже в пограничных видах литературы - в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях. Об этом свидетельствуют многие памятники культуры - в том числе письма Белинского.
Белинский создал новый тип критических статей, но и он, по многим причинам, не мог в них внести все сложнейшее содержание своего душевного опыта. Он был связан жанром и его задачами, - прежде всего невозможностью говорить в статьях о себе (это как раз широко практиковал молодой Герцен в автобиографических набросках 30-х годов). Он был связан и цензурой, и журнальными требованиями, и установкой - особенно с конца 30-х годов - на восприятие широкого читательского круга. "...Пишу не для вас и не для себя, а для публики", - сообщает Белинский московским друзьям вскоре после переезда в Петербург (XI, 438).
Работа в "Отечественных записках" уже с самого начала отмечена этим сознательным просветительством. Между тем в эти годы и в предшествующие Белинский прошел через психологические коллизии, необычайные по своей напряженности и осознанности. И вся эта огромная работа души ушла в его письма.
Как критик и историк литературы Белинский - основоположник русского реализма. Его теория реализма (этим термином в применении к искусству Белинский, впрочем, еще не пользовался) соответствовала той стадии, которой при жизни Белинского достигла русская литература, то есть стадии гоголевской школы. Белинский одновременно отражал и формировал это направление, "Детством" и "Отрочеством" и "Севастопольскими рассказами" Толстого, "Рудиным" Тургенева русский реализм вскоре решительно вступил в новый, психологический период своего развития. Но это уже после смерти Белинского. Белинский остался теоретиком литературы социальной типичности и характерности. В его статьях, даже в статьях о "Кто виноват?" Герцена или "Обыкновенной истории" Гончарова, психологический анализ еще не стал особой, самодовлеющей темой; это особенно ясно, если сравнить их хотя бы со знаменитой статьей Чернышевского 1856 года о ранних произведениях Толстого. А в то же время ранние письма Белинского являются замечательным документом своеобразной психологической интроспекции, как бы материалом, непосредственно подготовляющим русский психологический роман.
От книги Пыпина ("Белинский, его жизнь и переписка") и до наших дней письма Белинского являются первостепенной ценности материалом для построения его биографии, для изучения его идей в их сложной периодизации. Этим вопросам у нас посвящена обширная литература. В интересующей меня связи важно, что каждый из этапов развития философских и общественно-политических воззрений Белинского имеет и свой психологический аспект. Каждый из них момент становления нового действительного человека; в этом их объективное историческое значение. Субъективно для Белинского психологический самоанализ, интерес к собственной личности был как бы производным от запросов всегда встревоженной совести. Именно это включает его письма в художественное и этическое поле русского проблемного романа.
Отличительная черта эволюции Белинского - все возрастающая жажда реальности. Каждый предыдущий момент, даже в пределах одного периода развития, последовательно отвергается как недостаточно конкретный и действительный. И это всегда по сравнению с достигнутой новой конкретностью. Но в дальнейшем и она в свою очередь оказывается недостаточной. Фихтеанская "идеальность" разрешается кризисом 1838 года. Абстрактно понятая гегельянская действительность вскоре перерастает и примирение с действительностью существующей, но уже в 1840 году Белинский объявил ее "гнусной" и отрекся от своего с ней примирения. Но еще до этого политического отречения, еще в пределах той же гегельянской фазы, Белинский признал уже недействительность недавно обретенной действительности. Ему нужно все дальше ц дальше проникать в область реального. В письме-исповеди 1839 года, обращенном к Станкевичу, Белинский писал: "Мы очень плохо поняли "действительность", а думали, что очень хорошо ее поняли... Мы рассуждали о ней для начала очень недурно, даже изрядненько, и пописывали, но ужасно недействительно осуществляли ее в действительности" (XI, 388). За этим вскоре последует политический переворот в воззрениях Белинского, и с ним вместе признание гегельянского Общего - очередным призраком по сравнению с конкретностью личности, взятой теперь в ее социальном бытии.