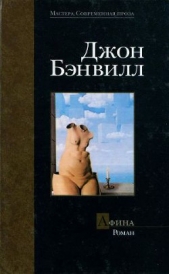Афина Паллада

Афина Паллада читать книгу онлайн
В этой книге Андрея Губина читатель найдет рассказы о великих мастерах искусства и литературы — Фидии, Данте, Рабле, Лермонтове, Л. Толстом, Дж. Лондоне, Ал. Грине. Это рассказы-легенды, основанные на неких достоверных фактах и событиях. В них не следует искать строго научного, биографического материала. Что переживал Лев Толстой в часы своего знаменитого побега от мира ? Была ли у Джека Лондона такая любовь, как говорит Губин? Важно только помнить: рассказы эти, скорее, об искусстве, творчестве, его отдельных моментах и законах, нежели о том или ином художнике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, больше ничего не возьмет он от мира — ни злата, ни булата, ни славы, ни замыслов.
И поэзию-то возьмет не вещественно, не в книгах, а в душе; и когда вместе со всеми получит урок на лесной делянке срубить столько-то дерев, мысленно, чтобы не слыхала честная братия, в коротких перерывах упьется:
Он с трудом устроился в карете. Последние дни недужилось. Были и приступы. Доктора уже посматривали друг на друга с тем особенным, тщеславным пониманием, когда смерть у ворот требует свою княжью дань.
Лекаря не знают, что он был мертв восемьдесят два года, а ныне восстал из праха страстей, потому что смирился до конца.
Сознание, для которого все лишь предмет истины, неумолимо чертило: ты боишься смерти, бежишь от небытия, ужасной, чудовищной несправедливости. Чтобы прогнать страх смерти, он подумал, что еще не отрешился полностью от ложных соблазнов. Он любил зори, поля, красивых женщин, оружие, а надо презирать это, тленное, обманчивое, и возвысить бессмертную душу до высшей любви.
Аллея кончилась. Дождь усиливался. Лошади понеслись.
Он забылся, и тут же сердце сжалось. Почудилась погоня, рыдающая и злая жена, слуги, крестьяне, дети…
Нет, это стучат колеса кареты.
Он закрыл глаза. Покалывало в боку.
Шум погони сильнее — или это шум крови? Слышны выстрелы…
А, это мчится в дыму погони Хаджи-Мурат, замысливший побег от мира, в горы, к себе самому…
Только бы не перестать быть самим собой, только бы ты не отказался от себя… Кто сказал это — Петрарка? А индийского поэта Калидасу он помнит хорошо: «Ну, вот, я отослал Сакунталу в дом к супругу — и снова я стал самим собой».
Чтобы отвлечься от боли в боку, представил себя одним из мюридов, скачущих от казаков. Лишь третьего дня еще работал над кавказской повестью.
Ух, как ловко стреляет на всем скаку этот весельчак и грешник, игрок Хан-Магома!
Дышится легко. Вдали сиреневые горы, резко изломавшие белыми венцами глубокую синь горизонта. Конь, словно пущенная по ветру стрела!
Выше… Выше…
Его владения кончились. Карета мчалась.
С тоской подумал: так и не удалось написать эту повесть — любимейшее детище; десять лет работы — и тщетно; даже не выбран еще окончательно репейник-символ, осталось два.
Какой оставить лучше? Или выбросить оба? Найти пушкински простой вариант. Символы — откровенное искусство, а надо бороться с искусством, надо чтобы оно в произведении умерло, став правдой. Как умирает зерно, став колосом.
Его давно называют мировым гением. Сравнивают с Буддой и Моисеем. Четвертое поколение земных людей воспитывается его книгами. А он чувствует: только теперь, в «Хаджи-Мурате», достиг вершин мастерства. В конце жизни. Когда дух окреп мощно, а оболочка духа — немощное тело — уже не выдерживает напряжения, рассыпается.
Что же оказалось вершинами? Пушкинская простота. И простодушная ясность чеканного библейского стиха. Все средства выразительности — даже язык — как бы отсутствуют; остается чистая ткань содержания. Ни одного самоцельного слова. Мятущиеся новые поэты прикрывают безликость мысли, путаницу в голове ворохами словесных цветов.
Но достиг ли и он вершин? Печатать «Хаджи-Мурата» не решался — масса вариантов не удовлетворяла.
Повесть решительно не похожа на его предыдущие книги. Он младенчески рад от нового завоевания, но и напуган. Он разорвал круг времен, вырвался в грядущее, не зная его, и растерялся, как человек, попавший на торг с монетами иного мира, которые никто не мог ни разменять, ни принять в уплату.
Фраза в повести совсем другая, нежели раньше. Любимый знак — точка с запятой теперь не нужен — нет фраз на полторы страницы. Нет мучительных сомнений, раздоров мысли. Есть пушкинская простота. Но рядом — символическая изысканность, тонкость и нервность будущих веков. Это пугало.
Он думал, что давно достиг той абсолютной высоты, с которой шагнуть дальше — идти вниз. А «Хаджи-Мурат» открыл новые пики вершин. И значит, надо снова карабкаться, падать, идти выше.
С ненавистью подумал о каторжной своей работе. Как галерник к веслу, прикован он к любимой деревянной ручке; на ней, как мозоль, белеет потертость от пальцев. Обступили слова, фразы. Надо немедленно вернуться домой, к рукописи и вписать их.
Карета неслась сквозь дождь и мрак. По черным полям горбато чернели стога. Робко мелькнет огонек лучины в дальней избе — и снова мгла, тоска, неизвестность.
Ему грезятся и картины детства, и самое последнее в зареве событий, охватившем его дом на склоне лет. Словно трагический персонаж, мечется он по сцене накануне пятого, последнего акта.
Или это начало новой драмы? Это похоже на начало: ночь, спящий дом, в тишине он встает; стукнув своему врачу и сомышленнику Маковицкому, сказал «едем»; Маковицкий, ни слова не говоря, поднимается, берет свой баульчик — и они мчатся в карете навстречу новой жизни.
Скорее, это конец, когда и волк, и кошка бегут в глухую чащобу прятать старые кости. Тогда почему они с Маковицким так напоминают мальчишек, задумавших сбегать за темный бор, куда не пускают их взрослые? Наверное, от положения — в нем, помимо трагического, есть и нечто смешное, как в искусстве.
Вот он сегодня уже не ночует дома. Что ждет его завтра? Станет ли он, наконец, самим собой? И надо ли еще жить?
Напрасно он не стал писать стихи смолоду. Как поэта его давно бы убили — на дуэли, чахоткой в тюрьме, из-за угла — поставили бы памятник, и все было бы кончено. Поэт обнаженней, хотя проза более разрушительна. Хотел же написать «Казаков» стихами.
Когда-то он мучительно завидовал Пушкину, владеющему и стихом, и непревзойденной прозой, и магической силой трагедии. Сравняться с Пушкиным сумел только Лермонтов.
Колеса зашелестели мягко, проваливаясь в завалы листьев. Ветер гудит в деревьях. Подступила старческая слабость, боль неизбежного прощания с жизнью. Кажется, впервые почувствовал трагическую прелесть строки:
Как хорошо! Зимним утром, еще в синей тьме, услышать далече звон службы; зажечь восковую свечу и помолиться на темные в серебре книги; затопить в лесной келье печь; и под тихим, густым, древнерусским снегом колоть дрова; встретить в лесу лосиху с лосенком, поговорить с ними, ощущая великое родство с внимательными соснами, чуткими снежинками и солнечной пушкинской строкой:
А вечером, при восковой свече, тесать кленовые топорища, грабли, вытачивать ольховые чашки, зарабатывая на хлеб; и лишь на мгновение, глянув на тающий воск свечи, вспомнить весну, молодость, жужжанье пчел в лугах, строящих пахучие кельи.
И опять резать светлый ясень, желтоватый орех с кольцами годов; перед сном припасть к суровому и чистому источнику огненных откровений Библии на древнееврейском языке, а среди ночи восстав, мученически разгадывать тайны неба.
Отныне его мир — свеча, изнурительный труд и первородное слово, которое блещет только потому, что лишено позолоты искусства.
Так он будет бороться с пушками и кинжалами, с развращающим бездельем городов, с телеграфом и электричеством, с поездами и адвокатами.
С ужасом и омерзением вспомнил, как любил кавказский черненый клинок и как им дорезал в лесу раненого зайца.
Богомерзкие руки! Они так уверенно сжимали шейку приклада, когда к бастионам приближались фигурки французских солдат — живых людей, с сердцем, родиной, матерью.
Правда, эти руки гладили голову ребенка, держали заступ и перо. Часто фраза не получалась в сознании, он брал перо — и руки писали нужное. До сих пор он помнит, как болели они, обмороженные зимой на пруду. А то, что руки столько лет грело солнце, ласкала женщина, обмывала вода — не помнится. Вот так же помнятся дни голода и охотно забываются дни благоденствия.