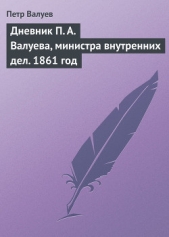Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По Эрмитажу ходил какой-то не старый американский сенатор, оказавшийся коммунистом, со своей невзрачной и не нарядной женой. Уровень культуры такой же низкий, как и у большинства навещавших нас других его соотечественников.
Затем с Бразом и со Степаном к Добычиной, но не застали ее дома. Один знакомый Браза, бывший видный чиновник, получил в качестве казенной меблировки отличный письменный стол. Все ящики в нем были заперты, и когда он их после больших усилий вскрыл, то в нем оказались письма всяких блядей к П.Н.Дурново и среди них самые невозможные (гадливые, про член самого генерала, про то, как он приятен).
Надежда Б. заходил к Альберту отметить сегодняшний вечер, затем в АРА к Реншау, вызвавшему меня к себе во время совета в Эрмитаже. Я уже рассчитывал было получить письма из Парижа, но оказывается, что Гольдер еще не уезжал из Москвы, едет в среду, а что Реншау меня приглашает для трех просьб, из коих две совершенно меня расстроили. Во-первых, он просит, чтобы я написал хвалебный отзыв об АРА, который он мог бы показать в Америке благодетелям, ассигновавшим громадные суммы на поддержку русских мозгов, the brains of Russia. Он клянется, что это дело интимное, он-де понимает, насколько щекотливо. Ему ужасно не хотелось, чтобы кто-либо из друзей АРА пострадал из-за них и тогда, когда они уедут. Просьба еще туда-сюда, хотя из-за нее уже хожу со вспухшей головой. Вторая: чтобы я наметил более пространное эссе о деятельности АРА вообще. Причем он очень настаивал на разнице в характере той и другой задачи, что я не вполне себе усвоил. Во всяком случае, не постарался слишком понять, но моя непонятливость, видно, его отпугнула. Однако мой совет — поручить это более компетентным людям, например, Ольденбургу, Чуковскому — не заставил его окончательно отказаться от поручения мне, и мы порешили это дело отложить до возвращения из Москвы Кинга. Третья просьба более приятная: получить и распределить еще сто пайков учителям и двести — театру. Причем они это представляют на мое усмотрение, и Реншау усиленно рекомендовал мне не забывать ни моих домашних, ни себя, ни друзей. Надо будет снабдить забытых среди балетных александринцев и художников. Весь разговор шел рядышком на мягком диване, причем Реншау только сквозь свои огромные стекла заглядывал мне в глаза, поджимая и без того поджатую свою губу, ворковал и переходил с французского на английский, глотая половину слогов и слов.
Что мне теперь делать?! Опять я этого не умею. А отказываться после стольких благодеяний (как раз третьего дня вчера получил еще одно извещение, кажется, от самого Реншау) немыслимо.
Вечером на музейном Совете В.К.Макаров, потребовавший в прошлый понедельник отменить свой доклад о пятилетней деятельности своей в Гатчине ввиду моего отсутствия, ныне его прочел и произвел им очень выгодное впечатление. Но то, чего он хотел достичь, он не достиг. Он хотел, чтобы Эрмитаж — иначе Совет — высказался окончательно относительно того, что мы еще берем, что оставляем и не отдадим ли что из Улемана: шпалеры для завески тех опустошенных стен, на которых висели фламандские шпалеры, ушедшие в Польшу. Однако на оба вопроса и я, и Тройницкий ответили уклончиво, и, действительно, еще не время, чтобы дворцы-музеи окончательно самоопределились и осознали себя, не время и нам ставить точку на наших претензиях. Все это в процессе становления! Советом, во всяком случае, признано желательным образовать комиссию по ускорению этого самоопределения — вместо той, почему-то ни разу не собиравшейся комиссии под моим председательством, из одних хранителей. Улита едет. Ну да в настоящих условиях это скорее желательно.
В конце (уже по уходе Ятманова и под председательством сегодня или вчера вернувшегося Кристи) предложил курьезный обмен мнений, вызванный Сычевым, который выступил с ходатайством от художественного отдела Русского музея, чтобы для более успешного собирания намеченных выставок графики моей, Сомова и Добужинского было дано официальное разъяснение декретов, которые убедили бы коллекционеров в безопасности предоставления своих вещей на выставки. Ерыкалов, вызубривший в точности декрет о регистрации произведений, процитировал относящиеся сюда места, из которых явствует (а Кристи радостно об этом заявил), что вещи регистрированные, во всяком случае, не могут быть отчуждаемы. Пришлось этим неисправимым олухам растолковывать, насколько неуместно само слово регистрация в приложении к таким «пустякам», как рисунок, набросок, виньетка. Дельно говорил Тройницкий. Беседа постепенно стала приобретать характер спора, во время которого мне удалось очень верно формулировать разницу между прежним и нынешним обладанием художественных вещей: раньше это обладание доставляло владельцу удовольствие, ныне же — одну неприятность. Отсюда вымирание самого института коллекционерства, а вследствие этого — кризис и агония в художественном творчестве. Не понять этого Ерыкалову, в общем, не глупому, но, например, считающему, что аукционы преуспевают, и это потому лишь, что он вместе с легионом ему подобных идеалистов никак не могут приучиться к реализму в вопросах оценки. В качестве справки я в заключение посоветовал Сычеву вообще отложить эти затеи еще на год, на два, авось декреты станут еще более милостивы, авось наверху опомнятся и найдут настоящие отношения к художественной собственности.
Еще с вечера раздавалось с улицы пение, а на некоторых зданиях горела в качестве иллюминации какая-то дрянь. Сегодня город весь разукрашен красными флагами, по улицам шныряют вперемежку с пассажирскими трамваями авто для привилегированных классов и для детей. Заново раскрашенные в красный цвет с золотыми буквами (стиль пошлейшего рококо), сюда вернулись украшения, в общем наводящие воспоминания о тех жутких красных гробах, в которых хоронят коммунистов. И с утра мимо наших окон в обе стороны шествуют военные части и делегации от заводов, гремящие всякую бойкую пошлятину с оркестром и в предшествии знамен и «лозунгов», писанных золотом по красным материям. Много и автомобилей с властями и «счастливым» пролетариатом. На Садовой видел и огромную калошу-автомобиль, в которой нашли себе место оркестр и человек тридцать рабочих и работниц с «Проводника». Большинство войск и делегаций шли на Дворцовую площадь или с нее. На площади должен был быть парад, на который вчера при мне для восхождения на трибуну были приглашены местным комиссаром Жуковым мэтр Реншау и доктор… Зато почти совсем не было обычной езды. Вся Садовая заполнена пешей пролетарской очень серой или, вернее, черной публикой. Праздничность, впрочем, была налицо. Но это исключительно благодаря прекрасной погоде, яркому солнцу, безоблачному небу и еще не бывшей в нынешнем году теплыни.
Утром я компоновал в третий или четвертый раз сцену, когда мальчик вслед за курицей проходит по комнате старушек-голландок.
Репетиция с Есипович отменена распоряжением Союза в четверг и перенесена на самый день ее выступления в четверг. Завтра эта неведомая мне актриса играет «Грозу». Почему такой ангажемент? Репетиция «Павильона» состоялась в 3 часа, и меня туда вызвал Купер для проверки пантомимной части, с которой мы и поладили, причем я изумился памяти Чекрыгина и Солянникова. Последний в роли юного Рене сейчас смешон, но в гриме он сойдет. Делает все точно. Весь город сейчас читает мемуары и особенно дневник Пуришкевича, содержащий рассказ об убийстве Распутина. И вот Лопухов рассказывает о своей встрече с Распутиным, как Саша Орлов его затащил в какое-то общество под видом своего тапера и как Распутин, сильно подвыпив, танцевал (и очень искусно, по-русски) без устали вприсядку почти час под его музыку и музыку одной артистки. Когда старца совсем развезло от танцев и вина, он стал приставать к одной из бывших там актрис, причем очень серчал на то, что она не поддается: «Чего ты, дура, — попрекал он ее, — под меня всякая баба лечь готова, а ты ломаешься». Кто-то обратил внимание на его белую шелковую рубаху, и он сейчас же не преминул заявить: «Это она (то есть императрица) мне ее сшила!» Вечер кончился ссорой Сашки с Распутиным. И могло бы дойти до драки, но хозяин спешно спровадил Орлова. Больше всего Лопухова поразила невзрачность Распутина и его небольшой рост. Хмелел он очень туго, и до конца держался с известным достоинством.