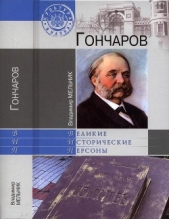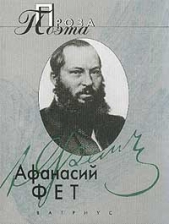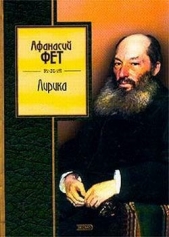Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В книгу «Воспоминания» вошли мемуары А.А. Фета («Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания»), которые рисуют яркую картину русской жизни на протяжении почти шести десятилетий и представляют собой источник для изучения жизненного и творческого пути А.А. Фета (1820–1892).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Памятна мне во всех подробностях небольшая сцена на другой или третий день праздников, о которой не могу и поныне вспомнить без улыбки. Между залой с накрытым обеденным столом и гостиной — в небольшой диванной была приготовлена закуска, к которой приглашали гостей. Помню, что через залу прошел Аполлон Григорьев в новой с иголочки черной венгерке со шнурами, басоном и костыльками, напоминавшей боярский кафтан. На ногах у него были ярко вычищенные сапоги с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечком. Когда Григорьев, в свою очередь, ушел в дверь диванной, чтобы раскланяться с хозяйкой, сидевшая в конце залы на паркете годовая девочка, дочь хозяйки дома, вдруг поднялась на ножки и, смотря вслед Григорьеву, закивала головой, подымая правую ручонку ко лбу.
— Посмотрите, посмотрите! — смеясь, воскликнул Василий Петрович. — Надя-то молится вслед Григорьеву, она сочла его за священника. Действительно, — продолжал Василий Петрович, — такие сапоги носит старое купечество, хотя в них, собственно, ничего нет русского. Это принадлежность костюма восемнадцатого века, и консерватизм выражается верностью старинной моде. То, что было когда-то знаменем неудержимого франтовства, стало теперь эмблемою степенства.
В подтверждение справедливого замечания Василия Петровича я вспомнил франтоватых молодых гостей, приезжавших к нам в Новоселки в двадцатых годах, именно в высоких сапогах, в каких изображают Александра Первого.
Не дожидаясь конца святой недели, Василий Петрович быстро собрался и уехал за границу, еще раз поручив меня вниманию своего семейства. «Чем в одиночестве-то скучать, — говорил он мне, — отчего вам не приходить в дом, где вам все рады».
По большому числу членов семейства, достигших зрелости, боткинский дом в ту пору можно было сравнить с большим комодом, вмещающим отдельные закоулки и ящички. Одним из таких закоулков были три комнаты на антресолях, занимаемые Марьей Петровной и ее роялем. Туда к ней собирались в известные дни знакомые ей девицы, большею частию миловидные, между которыми дочь доктора Шереметьевской больницы Ида Шлейхер, блондинка с голубыми глазами, отличалась чрезвычайно нежной красотой. Понятно, что сначала молодые братья Марии Петровны, снискав дружбу прекрасных посетительниц, проникли в гостиную молодой хозяйки, обзывая ее собрания «букетом», — а вслед за тем пробралась в эти собрания и близко знакомая в доме молодежь. Обычным угощением в этих случаях бывал чай; но иногда, когда долго засиживались, посылали в кухню за ужином, а самый пылкий из молодых братьев, оставшийся навсегда энтузиастом изящного, Дмитрий Петрович угощал ужинающих шампанским.
После одного из таких импровизированных ужинов, на котором случился и я, прелестная Идочка, как ее все называли, выразила опасение по поводу поздней поры и ночного, вешнего холода. Так как у меня была из Новоселок пролетка и знакомая уже нам Звездочка, то я и решился предложить прелестной девушке бережно доставить ее к звонку родительского крыльца. Надо было видеть, с какою ловкостью и заботой Дмитрий Петрович укутывал девушку в большой плед от ночного холода.
Бедный мой Борисов, остававшийся в одиночестве, поневоле иногда спрашивал меня, где я пропадаю, и, слыша фамилию одного и того же дома, очевидно нападал на мысли, не приходившие мне самому в голову. Однажды, увидав на мне небольшие дамские часы, он спросил:
— Откуда у тебя эти часы?
Пришлось рассказывать, как, опоздав несколькими минутами к обеду Боткиных, я вынужден был извиниться неимением часов, отданных в починку.
— У меня двое часов, — сказала Марья Петровна, — и я без малейшего затруднения могу вас снабдить одними, пока ваши не вернутся от часовщика.
Я стал отнекиваться, но скоро сообразив, что такое одолжение ни к чему не обязывает, с благодарностью его принял.
Чем более по временам я встречал сторонних гостей в доме Боткиных, тем уединеннее, то есть свободнее оказывались поневоле наши беседы с девицей Боткиной. Несмотря на то, что во внешнем нашем положении не было ни малейшего сходства, наше внутреннее заключало в себе много невольно сближающего. Покойный П. К. Боткин по принципу выдавал своим дочерям самое незначительное приданое. Тем не менее две старшие дочери от первого брака, а равно и две от второго были уже замужем, и только предпоследняя Марья оставалась в доме. Как бы чувствуя ее одиночество, строгий отец завещал ей одной, не в пример другим, несколько большее обеспечение.
Исключительное и сиротливое положение девушки вполне соответствовало моему собственному. И мои сестры и братья, за исключением бедной Нади, были пристроены и стояли на твердой почве, тогда как под моими ногами почва все ещё сильно колебалась, и в самое последнее время жизненный челнок мой, нашедший было скромный приют у родимого Новосельского берега, снова был от него отторгнут болезнью сестры.
Однажды, когда мы с Марьей Петровной взапуски жаловались на тяжесть нравственного одиночества, мне показалось, что предложение мое прекратить это одиночество не будет отвергнуто. К этому времени отыскал меня приехавший в Москву и остановившийся на Кузнецком мосту в гостинице «Россия» зять мой Александр Никитич Шеншин, который скуки ради привез с собой старуху Веру Алексеевну, носившую меня и всех моих братьев и сестер когда-то на руках. Старуха жаловалась мне, что кормивший ее всякого рода московскими сластями Александр Никитич в то же время колол ими ей глаза, на что Александр Никитич серьезно восклицал:
— Да как же мне ее не ругать? Сегодня утром полфунта колбасы и два калача съела. Этакая утроба ненасытная!
Еще не придя к окончательному, внутреннему решению, я вкратце изложил все обстоятельства моего сближения с Боткиными Александру Никитичу, не лишенному, невзирая на недостатки школьного образования, здравого смысла. Когда между прочим я спросил его. не следует ли мне списаться с родными в случае окончательного моего решения на брак, Александр Никитич сказал: «Кабы ты ожидал при этом от них какой особенной помощи, то я бы понял, почему ты ищешь их совета. А в настоящем случае ты лучше всякого знаешь, что тебе более подходяще. Тебя никто не спрашивал в подобных случаях; нечего и тебе беспокоиться».
Между тем в доме Боткиных я узнал, что Марья Петровна на днях уезжает за границу, сопровождая больную замужнюю сестру, которую московские доктора отправляли на воды. По всем обстоятельствам дальнейшее колебание становилось невозможным. И однажды, когда мы, ходя по маросейской зале, в виду ощущаемой возможности избавиться от нравственной бесприютности и одиночества, невольно стали на них жаловаться, — я решился спросить, нельзя ли нам помочь друг другу, вступая в союз, способный вполне вознаградить человека за все стороннее безучастие. Хотя такой прямой вопрос и ставил Марью Петровну, за отсутствием Василия Петровича, в очевидное затруднение, тем не менее она безотлагательно приняла мое предложение, чистосердечно объявив, что у нее ничего нет, за исключением небольшого капитала. Хотя у меня приблизительно было столько же, но так как все это было разбросано по разным рукам и, что еще хуже, по родственным, то я, во избежание могущих встретиться разочарований, объяснил наотрез, что у меня ничего нет. Таким образом, не объявляя никому ничего в доме, мы дали друг другу слово и порешили отложить свадьбу до сентября, то есть до возвращения невесты из-за границы.
По временам и грустная наша квартира с Борисовым благодушно оживала. Такому оживлению много способствовал умный, талантливый и пылкий энтузиаст, давнишний мой приятель, Ст. Ст. Громека, бывший в то время начальником жандармского дивизиона Николаевской дороги. Он сам когда-то во время оно писал стихи и был до болезненности чуток на все эстетическое. Сюда же весьма часто из-за Москвы-реки хаживал Ап. Григорьев. И когда, бывало, эти два энтузиаста — Громека и Григорьев — сойдутся за вечерним чаем, наше скромное обиталище превращается в Геликон. Григорьев, несмотря на бедный голосок, доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару.