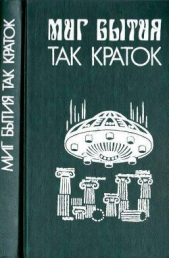Книга бытия (с иллюстрациями)

Книга бытия (с иллюстрациями) читать книгу онлайн
Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жил я в гостинице «Харьков». За моим окном, справа, громоздился многоэтажный «Госпром» — высшее архитектурное достижение города (столичной еще эпохи), напротив зеленел нарядный парк Шевченко.
В воскресенье, свободное от лекций и экскурсий, я сидел в парке — и опять смотрел на веселые парочки. Я решил повторить старый эксперимент — и не сомневался в результате. Тридцатилетняя (с гаком) украинизация, умножающиеся украинские школы, национальная литература…
Через некоторое время я всматривался в блокнот — и не верил своим глазам. Только три парочки из двадцати прошедших мимо меня говорили на чистом украинском!
Сейчас на Украине снова идет украинизация. Государственная «самостийность» требует самостийного языка. Несомненно, какие-то результаты будут достигнуты. Но всех препятствий не обойти. Тем более что одно из них заложено изначально: многотомный украинский словарь содержит в себе, кажется, около 50 тысяч слов, еще более многотомный русский — почти 150 тысяч. Это борцы разных весовых категорий.
Однако вернемся к профессору Гордиевскому.
В начале тридцатых и ему пришлось испить из горькой чаши. Он, как обычно, стоял на кафедре — прямой, худощавый, хмурый. Его язвили злыми вопросами, забрасывали враждебными репликами. Обвиняли в идеологических грехах, казнили за отступление от того, к чему он никогда не принадлежал. Он отвечал спокойно и выдержанно — не винился, а объяснял. От него требовали покаяния («разоружения» — так это называлось на лае дежурных идеологов) — кое-что он признавал, но ни в чем не сознавался. Я слушал его — и учился сохранять достоинство среди недостойной злобы. Меньше всего я мог предполагать, что и мне предстоит пережить такую же «разоблачительную» процедуру — и даже дважды: в Одессе, на кафедре, и в Москве, в следственной камере грозной Лубянки.
Смутно помню, как пытались вытащить на идеологическую казнь еще одного профессора, читавшего политэкономию в Инархозе (кажется, немца, человека средних лет, но уже известного ученого).
— Ты знаешь, что он объявил? — с ужасом говорил мне знакомый студент. — Экономическую систему Маркса, мол, согласен излагать во всех подробностях, но сам лично придерживаюсь только австрийской школы экономики, ибо она одна истинно научна. Нет, ты понимаешь — такую чушь сморозил! Секретарь парткома даже за голову схватился.
Преподавателя быстро поперли с должности. Главные экономические дисциплины в Инархозе стал читать профессор Герлах — ученый уже советской школы. Студенты его хвалили: он хорошо знал предмет и доступно его излагал. Не всякий новый лектор удостаивался таких отзывов.
Я не знаю, что случилось дальше с Гордиевским. Если он и остался в университете, то полностью выпал из моей памяти.
Идеологическая чистка старой профессуры, грянувшая в начале тридцатых, бушевала среди гуманитариев. Меня она касалась только краем — и я особо в нее не вникал. Только если буйство совершалось в непосредственном моем окружении, я присматривался и запоминал. Все остальное доходило урывками и частично.
Одним из таких «урывков» идеологического очищения стало исчезновение профессора Тюльпы. Не знаю, где преподавал этот красивый молодой человек и действительно ли имел звание профессора. Лектор он был блестящий — знающий, остроумный, находчивый. Он выступал в клубах культуры — рассказывал о художественной литературе советского периода. Это было модно — говорить о попутчиках, футуристах, ВАППе и РАППе, комсомольской поэзии, украинских писателях. Я несколько раз слушал его лекции — они были свежи и блестящи. И вот Тюльпа исчез. И немедленно поползли мрачные слухи: это не наш человек, он только притворялся советским профессором. Дальше показания расходились: не то в тюльповскои родне обнаружился непорядок по социальной части, не то сам он сболтнул на лекции что-то чуждое — в общем, его убрали, чтобы не осквернял молодое сознание.
Потом выяснилось: Тюльпу на несколько лет отправили в ссылку. Когда он отбыл свой (пока еще краткий) срок и, вернувшись в Одессу, стал опять читать лекции, его снова вышибли — на этот раз навсегда. Я стал невольным свидетелем этой вторичной высылки.
Меня вызвал к себе Беляев, секретарь обкома партии по агитации и пропаганде. Он сидел за широким полированным столом и жадно курил. Курили и почти все вызванные к нему — в комнате сгущался табачный туман.
К Беляеву вошел кто-то из прислужников и стал докладывать обстановку.
— Еще пустячок, — сказал он в заключение. — В городе появился Тюльпа, опять выступает с лекциями. Как прикажете поступить?
— Тюльпа? — удивился Беляев. — Что ему нужно в Одессе?
— Говорит, вернулся в родные места.
— Мало ли что он говорит! Передайте, чтобы немедленно испарился. А если заартачится, попросим покрепче.
Больше в Одессе никто о Тюльпе не слышал.
Теперь — о нашем курсе. Честно говоря, мне трудно вспомнить что-нибудь интересное — он был очень средним. Среди моих одноклассников по профшколе было многих ярких личностей, добившихся впоследствии серьезных успехов: Кучер — профессор в Сорбонне, Большой — лауреат Сталинской премии, конструктор, Богданов — директор завода, замминистра, Полтава — крупный строитель, Вайзель, Кордонский (и не они одни) — превосходные инженеры… Ничего этого я не могу сказать о моих сокурсниках. Если кто-то из них и стал выдающимся трудягой, то в университете ничто не предвещало такой возможности.
Курс был как курс: двадцать шесть рабфаковцев и пятеро прошедших вступительные экзамены — я, Миша Гефен, Оля Васильева, родственница нашего профессора теоретической механики, и Женя Мартынович (пятого уже не помню). Еще один нерабфаковец присоединился к нам позже — очень серьезный и дельный парень Олег Яровой.
Рабфаковцы отчетливо делились на две группы: «интеллигенты» (человек шесть) и «ребята из народа». Среди интеллигентов — Логинов, Ковалев, Кеслер, Корпун, Васин, Русаков… Эти люди не сумели добиться высшего образования в молодости. Тридцатилетние, они казались нам почти стариками. Университет был нужен им как почетный этап уже определившегося жизненного пути, а не как старт на высоты. Мы ежедневно встречались, даже дружили — и я все снова и снова убеждался, что они перезрели для науки. Бывшие учителя и рабочие, они растеряли свою творческую, производительную молодость на службе. Набрав необходимый стаж и понимая, что нормальные экзамены не для них, они записывались на рабфак — оттуда в университет (в общем-то им уже и не нужный) вела широкая и торная дорога. Все они были неплохими студентами — но не более того. И, как правило, возвращались на прежние должности (в большинстве своем — учителей средних школ). Правда, с более почетными документами и более высокой (наверное) зарплатой.
Совсем иначе выглядели молодые рабфаковцы. Их было около двадцати — и отличались они друг от друга только оттенками серого. Нет, я не утверждаю, что они выглядели сплошной однородной серятиной. Характеры у них были очень разные. Злой Футескул ничем не походил на сдержанного и вежливого Драбчука, хороший парень Борис Баклан — на недоверчиво-недоброго Гардашника, простодушный Маснюк — на скрытного Васько… Нет, серостью были не их характеры, а их отношение к науке, понимание ее, стремление к ней. В этом они были одинаково неразличимы. Ни один из них (во всяком случае — на моей памяти) не сверкнул даже мимолетным проблеском таланта.
Должен оговориться. Я имею в виду талант к физико-математическим наукам. Есть мир — и есть окружение.
Там, в том окружении, откуда вышли наши рабфаковцы, они вовсе не были бездарностями. Они приезжали в Одессу из деревень, их посылали в университет заводы — как лучших из лучших (в своей среде). Это подтверждали документы с печатями школ, педсоветов, комсомольских и партийных ячеек. Но, интеллигенты в первом поколении, среди интеллигенции по праву рождения они оказались не в своей тарелке. И в науке — настоящей, многовековой — они тоже были не на месте. Исключения встречались — например, Ломоносов и Фарадей. На моем курсе, мне кажется, их не было.