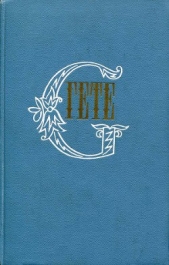Разговоры с Гете в последние годы его жизни
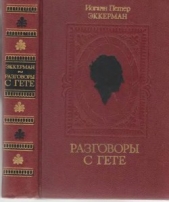
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне нечего было возразить на столь убедительные доводы, к тому же я был доволен, что эта проблема для меня разрешилась.
— Но не думаете ли вы, — заметил я, — что вина здесь ложится и на новейших композиторов, — возможно, они неправильно инструментуют оркестровый аккомпанемент в опере.
— Разумеется, — отвечал мой собеседник, — многие впадают в эту ошибку, но только не великие мастера, как, например, Моцарт или Россини. Иной раз, впрочем, и они вводят в аккомпанемент мотивы, независимые от певческой мелодии, но при этом столь умеренно, что вокал всегда остается главенствующим. Новейшие же композиторы, несмотря на скудность мотивов в оркестровом сопровождении, частенько глушат голоса певцов чрезмерно громкой инструментовкой.
Я не мог не согласиться с юным незнакомцем. От другого сотрапезника я узнал, что это был молодой лифляндский барон, который долго жил в Париже и Лондоне, но вот уже пять лет, как живет здесь, занимаясь науками.
И еще одно, что я заметил в опере, и заметил с большим удовольствием. Итальянцы изображают на сцене ночь не как наступивший мрак, а лишь символически. В немецких театрах на меня всегда неприятное впечатление производила темнота в ночных сценах, когда не видишь выражения лиц актеров, а иной раз даже их самих — перед тобою сплошная темень. Итальянцы поступают куда умнее. Их театральная ночь только намек. Сцена чуть затемнена в глубине, исполнители подходят ближе к просцениуму, так, что они достаточно освещены и ничто в их мимике не ускользает от зрителя. Этот же принцип, вероятно, соблюдается и в живописи: вряд ли нам удастся встретить картину, где лица неразличимы во мраке. Думается, хорошие мастера так не пишут.
Этот же остроумный прием я видел использованным и в балете. На сцене изображена ночь, под ее покровом разбойник нападает на девушку. Свет лишь слегка притушен, так что отчетливо видна мимика танцоров и каждое их движение. Девушка кричит, разбойник убегает, но к ней и факелами уже спешат на помощь ее односельчане. И факелы эти не тусклые огоньки, они горят ярким пламенем, и, по контрасту с вдруг осветившейся сценой, становится очевидно, что все предыдущее происходило ночью.
Все, что мне рассказывали в Германии о шумной итальянской публике, подтверждалось сполна, и еще я заметил, что она становится тем беспокойнее, чем дольше дается опера. Две недели назад я присутствовал на одном из первых представлений «Графа Ори». Известных певцов и певиц публика встречала взрывом аплодисментов; во время проходных сцен в зале разговаривали, но едва дело доходило до любимых арий, наступала тишина и всеобщее одобрение служило наградой певцам. Хор пел выше всяких похвал, и мне оставалось только поражаться слитности голосов и оркестра. Но теперь, когда оперу так долго ставили каждый вечер, публика сделалась невнимательной, все переговаривались между собой, зал гудел, как улей. Лишь изредка раздавались отдельные хлопки, и я не понимал, как у певцов хватало выдержки хотя бы разомкнуть губы, а у оркестрантов притронуться к своим инструментам. От усердия, от былой точности даже следа не осталось, и приезжего, которому захотелось бы послушать в Милане какую-нибудь оперу, неминуемо охватило бы отчаяние, будь оно возможно среди столь развеселого окружения.
Хочу записать еще несколько итальянских наблюдений, доставивших мне радость или показавшихся особо интересными.
Вверху, на Симплоне, в туманной и заснеженной глуши, поблизости от траттории, к нашему экипажу подошел мальчик, вместе с сестренкой подымавшийся в гору. За спинами у обоих были небольшие корзинки с хворостом, собранным ниже, где еще встречается какая-то растительность. Мальчик протянул нам несколько кусочков горного хрусталя и еще какие-то камешки, мы же дали ему несколько мелких монет. И мне навеки запомнился тот ликующий взгляд, который он, уходя от нас, украдкой бросил на свое богатство. Такого неземного выражения блаженства мне еще никогда видеть не доводилось. Я стал думать о том, что господь открыл душе человеческой все источники счастья и потому счастье нисколько не зависит от того, где живет человек и как ему живется.
Я хотел продолжать свои заметки, но что-то помешало мне и во все время дальнейшего пребывания в Италии, где, разумеется, и дня не проходило без новых значительных открытий и наблюдений, я так и не собрался вернуться к ним. Только распрощавшись с Гёте-сыном и оставив позади Альпы, я написал Гёте нижеследующее письмо.
На сей раз мне столько всего хочется рассказать Вам, что я в растерянности: с чего начать и чем кончить.
Ваше превосходительство в шутку нередко говаривали, что отъезд был бы прекрасен, если бы за ним не следовало возвращение. Сейчас я с болью ощущаю всю справедливость этих слов, ибо нахожусь, можно сказать, на распутье. И не знаю, какую мне избрать дорогу.
Мое пребыванье в Италии, несмотря на всю его краткость, конечно же, принесло мне большую пользу. Великолепная природа говорила со мной на языке своих чудес, спрашивая, достаточно ли я развит теперь, чтобы понимать этот язык. Великие творения людей, великие их деяния будоражили мою душу и заставляли меня, глядя на собственные руки, думать: а ты-то что способен совершить? Тысячи самых разных жизней, коснувшись меня, словно бы задавали мне вопрос: в чем она наполнена, твоя жизнь? И так я ощутил три необоримых потребности: умножить свои знания, улучшить свои житейские условия и, чтобы добиться того и другого, приступить к вполне определенному делу.
Никаких сомнений по поводу того, каким оно будет, я не испытываю. В душе я уже годами пестую произведение, которому отдаю весь свой досуг, и оно почти что закончено, если можно назвать законченным корабль, еще нуждающийся в оснастке, для того чтобы сойти со стапелей.
Я имею в виду те разговоры о великих основах различных видов искусства и науки, равно как и рассуждения о высших интересах человечества, о творениях духа и о выдающихся современниках, словом, разговоры, для которых всегда находился повод в течение шести счастливых лет моего пребывания подле Вас. Эти разговоры стали для меня фундаментом поистине неисчерпаемой культуры, а так как я был бесконечно счастлив, слыша их и впитывая их в себя, то мне, натурально, захотелось поделиться своим счастьем с другими, почему я и записал их для лучшей части человечества.
Ваше превосходительство, хотя и урывками просматривая мои записи, отнеслись к ним одобрительно и не раз поощряли меня продолжать начатое. Я так и поступал время от времени, когда мне позволяла это моя рассеянная жизнь в Веймаре, и в конце концов у меня накопилось довольно материала для двух томов.
Перед отъездом в Италию я не упаковал в чемодан эти самые важные для меня рукописи вместе с другими моими писаниями и вещами, но запечатал в специальный пакет и оставил на хранение нашему другу Сорэ с покорнейшей просьбой, если меня в дороге постигает несчастье и я не вернусь назад, передать их Вам в собственные руки.
После посещения Венеции, когда мы во второй раз приехали в Милан, я заболел горячкой, несколько ночей мне было очень худо, а потом целую неделю я ничего не мог есть и лежал вконец обессиленный. В эти одинокие, тяжкие часы я не думал ни о чем, кроме своей рукописи, меня страшно тревожило, что в таком недоработанном, непроясненном состоянии она не сможет быть использована. Перед глазами у меня вставали места, написанные простым карандашом, да еще недостаточно четко, я вспоминал, что многие записи еще только намечены, — одним словом, что вся рукопись не просмотрена подобающим образом и не отредактирована.
При том состоянии, в котором я находился, да еще мучимый этими страхами, я ощутил жгучую потребность заняться своей рукописью. Перспектива увидеть Рим и Неаполь больше не радовала меня, мной овладело страстное желание воротиться в Германию и в полном уединении закончить работу над рукописью.