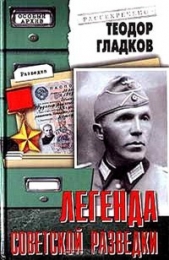Звать меня Кузнецов. Я один

Звать меня Кузнецов. Я один читать книгу онлайн
Эта книга посвящена памяти большого русского поэта Юрия Поликарповича Кузнецова (1941—2003).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наступила учёба. Каждый вторник — творческий день, отданный целиком семинарам. Несколько вторников с Кузнецовым — это щедро со стороны нещедрой судьбы. Однако по нашей маленькой группе с первого же занятия пошла трещина. Кто-то начат роптать: зачем я буду учиться четыре года у Кузнецова, чтобы на защите диплома он меня «завалил»! Я этих товарищей понять не мог: причём тут диплом? Да и не думалось мне, что Кузнецов станет кого-то специально «заваливать». Тем не менее, кое-кто начал сбегать к другим преподавателям. Первым ушёл Андрей Ширяев из Алма-Аты. Он успел подарить мне свою первую книжку, стихи в которой казались продолжением стихов другого, очень популярного и авторитетного для многих стихотворца, и с тех пор я об этом парне ничего больше не знаю.
Однако кто-то старался уйти, «сбежать» от Кузнецова, а кто-то — и оставался. Оставались, в основном, те, кто знал его и прежде — как поэта, а не как институтского профессора. На семинарах слушали очень внимательно, хотя говорил Кузнецов не больно-то живо, словно даже с неохотой. Спорить? Не помню, спорить, кажется, особо не приходилось. Просто не о чём было.
Занятия проходили обычно так. Юрий Поликарпович доставал откуда-то из-под спуда какую-нибудь «тему», которую со всех сторон и обкатывал. Например, тему «Детство». Например, тему «Имя». И приводил множество примеров из поэтов прошлых времён, иногда из более-менее современных, изречения мыслителей или отрывки из Библии. (Весьма подробно занятия кузнецовского семинара описала моя однокурсница Марина Гах, её записи опубликованы в «Нашем современнике»; номер, кажется, 11-й за прошлый год.) Это… было мне не очень интересно. Казалось не очень важным. Но много говорило о самом поэте Юрии Кузнецове. Своих собственных стихов он почти не касался, разве что если надо было для примера вспомнить.
Установочная сессия кончилась. Мы, получив контрольные, разъехались по домам до следующей сессии, до апреля следующего года. Образ жизни в ту пору у меня был таков, что корпеть над контрольными было, м-м… затруднительно. А время приближалось. Всё более отчаиваясь, написал Юрию Поликарповичу письмо, что вот-де, так-то и так-то, а есть риск того, что я, Ваш студент, ни подготовить ничего не успею, ни вообще на сессию приехать. Сильно надеялся, что вот ответит он чем-то вроде: ах ты, дескать, сукин сын, не дай бог не приедешь живым или мёртвым!.. — я сразу, бросив всё, и сорвусь, и буду в Москве. Ждал-ждал ответа, но он не пришёл. (Олег Б-в потом рассказал, что Кузнецов говорил им на семинаре, что вот-де пришло письмо от Ц., что хотел всё ответить да так как-то и не написал. Понятно всё, чего ж. У меня так же бывает). Сессия в Москве в институте началась, а я остался дома — учёбе конец. Очень черна была тогда душа моя…
К сентябрю, однако, кто-то уговорил меня, что можно досдать контрольные и экзамены после, а главное — чтобы приехать. В сентябре я опять был в Москве, но сдавать что-либо — никаких ни сил, ни возможности не было. В деканате написал заявление на академический отпуск, отстал на один курс. Зато опять был на занятиях Кузнецова…
Учёба так и шла у меня через пень-колоду. Та жизнь, которую я вёл тогда наполовину вынужденно, наполовину добровольно, — к учёбе никак не располагала. Притом вечная нехватка денег. А скоро и вообще потерял работу, на которой трудился ровно десять лет и неделю. На последнюю для меня сессию (это курс третий? или четвёртый уже? — так и не разобрался, неважно) приехал с опозданием на неделю (или две). Поликарпыч спрашивает: почему опоздал? А не на что было ехать, говорю. Ну к сентябрю, говорит, копи деньги заранее…
Легко сказать. Через пару месяцев после этого разговора я потерял и другую, случайно попавшуюся работу, и стал безработным уже надолго. С тех пор, с апреля 1995-го, никогда больше в Москве не был. Документы мои, поди, до сих пор в архивах института валяются — некому забрать.
На кузнецовском семинаре меж тем дела были тоже нехороши. По слухам, он громил студентов на своих семинарах в пух и прах. (Справедливости ради скажу, что другие слухи, напротив, утверждали, что разносы Кузнецов делал совершенно справедливо, и никакой такой «свирепости» вовсе не проявлял). И, похоже, тогда его семинар затрещал уже капитально. «Сбегать» от него к другим стали многие. Не буду их здесь называть, не хочу. Но боюсь, что и моя личная незадача оказалась связана с этим. Я не бросал учебу, не бросал семинар, просто материально не было возможности съездить до Москвы и обратно (тяжелее, отчаянней, чем в девяностые, не жил никогда; теперь-то уже — так, «цветочки» остались). Но Кузнецов, на общем фоне, видимо, решил, что и Ц. — из тех, кто смалодушничал, убежал от него. Во всяком случае, так мне показалось при позднейших встречах.
А они, слава Богу, ещё были. Проводился в Сыктывкаре семинар молодых авторов Коми. В качестве мастеров были приглашены от Москвы Сергей Есин (мой, тогда ещё не совсем чтобы бывший, ректор), Валентин Сорокин и — о, чудо! — Юрий Кузнецов! Ещё один шанс, ещё одну встречу подарила судьба.
Да ещё где? Прямо у себя дома!
Ну ладно, значит, семинар семинаром. Когда была возможность, я на нём тоже появлялся — сидел, слушал, наблюдал за Кузнецовым. Всё идёт как заведено в таких случаях — обсуждения соискателей (или как их там), обмен мнениями. А Кузнецов — что Кузнецов? — меня, своего незадачливого «студента», словно и не узнаёт (я ведь уже было вторую сессию пропускаю, год не встречались). Да и мне не сильно жжётся. Гордость против гордости. В один из перекуров таки отозвал меня в сторонку: «Ну, чего делать будем?» Я растерялся: «С чем, с институтом?» (Для меня-то уже понятно, что с учёбой — окончательно швах). А он словно и не расслышал про институт (тогда-то мне и подумалось, что по институтским делам он и меня в ренегаты записал), буркнул: «Надо в Союз писателей вступать» (в Союз писателей России, имеется в виду, — на том семинаре несколько человек в него приняли; у нас ведь ты до смерти можешь считаться в «молодых»). А я и не возражаю: «Хорошо, хоть сейчас», — говорю. «Тогда, — он говорит, — надо заявление отправить в Москву в Союз российских писателей, что, дескать, отказываюсь от членства там». (А меня туда приняли, хоть я и не просился; всего за несколько месяцев до того случилось — приняли даже почему-то без моего заявления, по рекомендации Александра Кушнера и Игоря Меламеда).
Вот-те красиво, думаю: меня туда приняли, выказали доверие и, своего рода, признание, а я им теперь пиши, что отказываюсь, мол, от вашего доверия и признания. Не сговорились мы тут с Кузнецовым. Мне, — веду волынку, — всё равно в какой Союз вступать, могу и в тот, и в этот одновременно, но ради одного — ни с того ни с сего отрекаться от другого (в который по воле случая на чуть-чуть всего раньше попал) — нет желания. Поликарпович ни уговаривать не стал, ни попрекать: что случилось — случилось. Просто ответил, что сразу в оба Союза — нельзя, да тем (то есть ничем) разговор и кончился.
(Хотя, чего греха таить, ближе-то мне, конечно, «кузнецовский», а не «кушнеровский» Союз — почти все мои лично знакомые литераторы — как раз в нём, в «писателей России» состоят, а не в «российских писателей», в который меня вот занесло. Во всяком случае, хотя бы его отделение у нас в Коми есть: правление, выборы там, собрания, кумовство опять же. А вот «кушнеровского» Союза, «демократического» — у нас в Коми всех членов — всего-то два с половиной человека. Какой уж тут Союз — только формальность, да разве что членский билет имеется).
Но я, вижу, совсем не о том рассказываю. Всё о себе да о себе, а о Кузнецове — лишь так, мельком, в эпизодах. А и пусть. Что он говорил на своих семинарах в Москве — помню. Что говорил на нашем семинаре в Коми, кого хвалил, а кого громил — помню, притом ещё и на магнитофон всё записывал. А говорить здесь об этом — вдруг расхотелось. Не потому что хотелось бы чего-то, какие-то его стороны, не показывать, а просто вот — хочется уберечь это в себе. Он ведь в моей памяти — просто живой человек. Просто человек, даром что за ним видится, возвышается — Поэт. И воспоминания мои — суть штука личная, интимная.