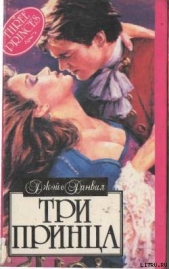Джойс

Джойс читать книгу онлайн
Ирландец Джеймс Джойс (1882–1941) по праву считается одним из крупнейших мастеров литературы XX века. Его романы «Улисс» и «Поминки по Финнегану» причудливо преобразовывали окружающую действительность, вызывая полярные оценки — от восторженных похвал до обвинений в абсурдности и непристойности. Избегая внимания публики и прессы, он окружил свою жизнь и творчество завесой тайны, задав исследователям множество загадок. Их пытается разгадать автор первой русской биографии Джойса — писатель и литературовед Алан Кубатиев. В его увлекательном повествовании читатель шаг за шагом проходит вместе с героем путь от детства в любимом и ненавистном Дублине до смерти в охваченной войной Европе, от комедий и драм скитальческой жизни Джойса — к сложным смыслам и аллюзиям, скрытым в его произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из американцев ближе других ему был Роберт Макэлмон, поэт и новеллист, женатый на богатой английской наследнице. Он с удовольствием тратил деньги тестя и из них около полутора сотен фунтов ежемесячно ссужал Джойсу, чтобы он мог работать над «Улиссом» и закончить его. Возврат кредита его не волновал. Джойса, впрочем, тоже. Джойс то и дело спрашивал его, как Бадгена, — что он думает о той или иной странице его книги. Но Бадген не был писателем, ревнующим к славе другого и заботившимся о своих произведениях; он вряд ли мог дать «суждение простака». Его очень мало интересовали сложности католицизма и буйство ирландской политики. Тем не менее они часто виделись и говорили. Джойс считал его интересным автором и даже находил сходство в их новеллистике. Его не слишком заботили другие писатели, он даже спрашивал Макэлмона, действительно ли Паунд и Элиот значительные авторы. Макэлмон весело отвечал: «Неужели, Джойс, это спрашиваете вы, сомневающийся во всем, даже в себе?»
Макэлмон стал отчасти соавтором романа: когда не удавалось отыскать машинистку для «Пенелопы», он взялся отпечатать текст, но рукопись была сложной сама по себе, а пометки Джойса густо заполняли все свободное пространство, и временами Макэлмон путал строки в монологе Молли; отчаявшись, он сказал себе, что в этом неорганизованном рассудке все равно нет никакого порядка, и оставил все как есть. Но потом он заметил, что Джойс не выправил его нечаянные переносы, и честно спросил его, заметил ли он что-нибудь. Джойс сказал: «Конечно, но согласился с тобой». Тем не менее, когда в 1925 году он упрекал в письме мисс Уивер, что печатник допустил изменения в «Поминках по Финнегану», Джойс издевался над рыцарственным отношением Макэлмона к Молли:
«Менял ли Фосетт эти слова? Там их два. Не имеет значения. „Кромвелирование“ и… О, да! „Бисексцикл“. Такая куча. Надеюсь все же, что поменял. О крысы! Стиль такая дурацкая штука!.. (С извинениями в адрес мистера Роберта Макэлмона)».
Несколько раз ему и Ларбо случалось выпивать вместе, и в их компании возник молодой и брутальный черноусый американец с рекомендательным письмом от Шервуда Андерсона. Звали его Эрнест Хемингуэй, он был беден, носил в обеих ногах «кучу ржавых шурупов и гвоздей» от немецкой шрапнели, писал рассказы и подрабатывал репортерской работой. Появился и Сэмюел Рот, очень интересный поэт, удостоившийся искренних похвал Э. А. Робинсона. Джойс, по всегдашнему интересу к евреям, благосклонно отнесся к нему и внимал восторгам Рота по поводу его прозы без обычной подозрительности. (Знал бы он, что Рот станет первым его «пиратом», издав куски «Улисса» без разрешения автора! Сильвии Бич придется потратить много сил, чтобы справиться с этим, — понадобится даже так называемый «Международный протест» 1927 года, где уважаемые и известные литераторы высказывались против публикации. С другой стороны, это помогло издательству «Рэндом хауз» добиться отмены цензурного запрета на роман.)
Сисли Хаддлстон, английский журналист и прозаик, сначала не воспринял Джойса: тот показался ему чопорным и скучным. Однако и его до слез рассмешила шутка Джойса. В кафе пела певица, и ночная бабочка влетела ей в широко открытый рот. Певицу едва не стошнило, а сухо усмехнувшийся Джойс тут же процитировал: «Как бабочку тянет к звезде…» [130]
Уиндем Льюис часто встречался с Джойсом в «Цыганском баре» возле Пантеона, и алкоголь смягчал их обычные раздоры, но ненамного. Они спорили обо всем — о готических соборах, о войнах, а самые жестокие споры были о национальных проблемах: в случае Джойса это всегда был разговор либо об ирландцах, либо о евреях. Как-то Джойс заявил, что ирландские и еврейские божества совершенно схожи. Льюис сказал, что ирландские воинственнее.
— Были воинственнее, хотите вы сказать? — вдруг ощетинился Джойс. — Возможно. Я о них очень мало знаю.
Но потом вдруг задумчиво добавил:
— Мне так не кажется… Очень нежная и мягкая раса…
Чтобы было интереснее, Льюис часто приманивал в компанию парочку местных проституток. Их щедро поили, забавлялись их выходками и словечками, но другого внимания не удостаивали. Однажды подвыпивший Льюис нарушил было правило, но Джойс его величаво осадил:
— Не забывайте, что вы автор «Идеального гиганта»…
Самого Джойса как-то заинтересовал дирижер маленького оркестрика, и он спросил старшую из девиц о нем. Та, подумав, сказала:
— Ему сорок. Он старый.
Джойс, которому вот-вот должно было исполниться сорок, спросил:
— Разве сорок — это старость? У римлян «младшим» именовали человека до пятидесяти…
Девица испугалась, что ее выгонят из-за стола, но все обошлось.
Как-то ночью Джойс и Льюис постучались в дверь бара уже после закрытия, и в ответ на требование назваться Джойс принялся громко декламировать Верлена. Двери тут же отворились перед «мсье ле поэт»…
Он продолжал собирать в роман все, что находил, как Стендаль — «Я беру свое добро везде, где его нахожу…» У Уоллисов он подслушал разговор между хозяйкой дома и молодым художником. Что говорил гость, ему не было слышно, а вот «да», произнесенное много раз с меняющейся интонацией и выражением, доносилось отчетливо.
Джойс вдруг понял: вот оно, то слово, которым начнется и закончится «Пенелопа». Он тут же написал Ларбо: «Вы много раз спрашивали меня, каким словом я закончу „Улисса“. Вот оно: „ДА“».
Но тревога за будущее книги никуда не делась: возможно, потому он и пил так часто, невзирая на дурное самочувствие и все ухудшающееся зрение, что ждал новых неприятностей, и они чинно являлись и занимали свои места. В любом событии — зубная боль, гроза, с визгом затормозившее такси — Джойс провидел рок и несчастья. Все суеверия Европы он знал наизусть и видел их повсюду, в явном и скрытом. Тринадцать, его любимое число, приносившее удачу, возникало в сумме цифр 1921; но одновременно это был день смерти Мэри Джейн Джойс. Пенелопа была ткачиха — «уивер» по-английски, а это была фамилия самой преданной его сторонницы и благодетельницы… Он суеверно вглядывался сквозь толстые стекла, как лежат вилка и нож — не крестом ли? Разливали вино — он следил, как Макэлмон это делает. Обычная парижская крыса метнулась по лестнице, и Джойс уже взвинчен: «Дурной знак!» Он потерял сознание от волнения, его пришлось везти домой в такси и с помощью водителя внести в квартиру. Обозленная Нора все же сдержалась, когда поняла, что он не пьян, а еле жив от ужаса. На следующий день, когда они с Макэлмоном и Норой пили кофе с ликером в «Кафе д'Аркур», пришлось опять вызывать такси — у Джойса начался мучительный приступ ирита. Пять недель он пролежал дома, в темноте, пытаясь ослабить боли теплыми компрессами и регулярным закапыванием кокаина. Друзья звонили ему, чтобы хоть как-то приободрить, приходили навестить его вместе с офтальмологом, и Джойс проверял, не ослеп ли он, считая фонари на Пляс де ла Конкорд, а они подтверждали число. К августу приступ прошел. Он радовался, что приходит в себя быстрее обычного, и работал над корректурой то одним, то другим глазом иной раз по двенадцать часов в сутки. Перерывы наступали, когда он переставал что-нибудь видеть и дожидался, пока снова начнет различать буквы. Джойс понимал, что рискует, но не мог больше откладывать работу. «Голова идет кругом, но моему читателю придется еще хуже, — иронично замечал он. — Конечно, это причуда; книга вряд ли окупит и десятую часть таких усилий». Но он изо всех сил старался наверстать потерянное время.
Ему надо во что бы то ни стало дописать «Итаку», отложенную ради «Пенелопы» и уже несколько раз переписанную заново. Первое предложение «Пенелопы» уже содержало две с половиной тысячи слов и явно должно было вырасти в несколько раз. «Блум и все Блумово скоро помрет, слава Господу. Все говорят, он должен был помереть много раньше…»
В октябре вернулся из Италии Ларбо, и Джойсу пришлось заняться другим привычным спортом: искать жилье. Уиндем Льюис, приглашенный навестить Джойсов перед тем, как они освободят квартиру, вспоминал, как он увидел Джорджо, валявшегося на диване в своей комнате, задрав ноги на печку. Затем он заметил Нору, которая предположительно бегала по Парижу, ища квартиру; но в реальности она сидела, задрав ноги на стол. А на балконе Лючия читала, задрав ноги на перила. Откуда могло взяться при такой позиции новое жилье, было тайной, и Джойсам пришлось переезжать обратно на рю де Юниверсите, 9, где они опять спали втроем в одной комнате, а во второй спал и писал отец семейства. Несколько карликовых пальм в горшках занимали драгоценное место, потому что они напоминали Джойсу о Феникс-парке: одна увядала, ее выбрасывали и заменяли новой. А Джойс продолжал писать.