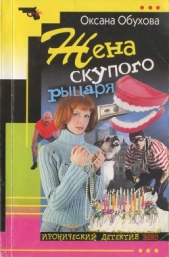За полвека. Воспоминания

За полвека. Воспоминания читать книгу онлайн
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вероятно, воздух Малого театра, пахнув опять на меня, вызвал во мне более глубокую и искреннюю думу о нашем сценическом искусстве и нашем избранном репертуаре. Факт тот, что я взял с собою в Париж маленькую библиотеку, и лицо Чацкого захватывало меня так, как никогда раньше.
Я стал даже мечтать о комедии, которая бы через сорок с лишком лет была создана на такую же почти идею. Помню, что в Париже (вскоре после моего приезда) я набросал даже несколько монологов… в стихах, чего никогда не позволял себе. И я стал изучать заново две роли — Чацкого (хотя еще в 1863 году играл ее) и Хлестакова. Этого мало — я составлял коллекцию костюмов для Чацкого по картинкам мод 20-х годов и очень сожалею, что она у меня затерялась.
Моя мечта о сцене как новой художественной дороге не осуществилась. Но интерес к театру, в самом обширном значении и содержании, не пропадал. А Париж, особенно тогда, представлял собою самое обширное поле для изучений всякого рода, начиная с вопроса о преподавании театрального искусства. И по этой части единственно во Франции было национальное учреждение. Консерватория не только «музыки», но и «декламации», даровая высшая школа, предоставленная всем, у кого окажутся способности к делу драматического артиста.
Я уже сказал, что приехал в Париж, заручившись и работой корреспондента. Первая газета, с которой я условился по этой части, была «Москва» (потом «Москвич») — орган Ивана Аксакова. Я в Москве поехал к нему и сговорился. Тогда я его и видел поближе и помню отчетливо его квартиру и тесноватый кабинетик, куда надо было (как это бывает в московских домах) спускаться вниз одну ступеньку. Раньше я его видал и слышал издали. Он меня принял ласково и согласился печатать письма и о парижской общей жизни, и о политике, литературе и выставке, когда она весной откроется.
А уже из Парижа я списался с редакцией газеты «Русский инвалид». Редактора я совсем не знал. Это был полковник генерального штаба Зыков, впоследствии заслуженный генерал. Тогда газета считалась весьма либеральной. Ее постоянными сотрудниками состояли уже оба «сиамских близнеца» тогдашнего радикализма (!) Суворин и Буренин как фельетонисты.
У Аксакова я подписывался буквами, а для «Инвалида» сочинил псевдоним «Авенир Миролюбов».
Так я обставил свой заработок в ожидании того, что буду писать как беллетрист и автор более крупных журнальных статей. Но прямых связей с тогдашними петербургскими толстыми журналами у меня еще не было.
Поселился я опять в Латинском квартале, на самом Boulevard St.Michel — главной артерии «квартала школ», как парижане до сих пор зовут эту часть города.
Тогда из студенческих кафе одним из самых бойких было Кафе молодой Франции, и теперь еще существующее, хотя и в измененном виде. Верхний над ним этаж занимали меблированные комнаты, довольно чистенькие, содержимые «мадамой» с манерами и тоном светской женщины. Было это уже подороже того, что мы с москвичами платили в Hotel Lincoln. Из них ботаник Петунников вернулся в Россию, а Вырубов совсем устроился в Париже, взял квартиру, отделал ее и стал поживать, как русский парижанин. Он продолжал свои работы по химии и минералогии, интересовался и медициной и расширял свое знакомство в научных сферах. Тогда уже он задумывал издавать с Литтре философский журнал. У него стали собираться позитивисты. А к следующему сезону он назначил дни — сколько помню, по четвергам, и через три года в один из них состоялось и мое настоящее знакомство с А.И.Герценом.
Программа моего парижского дня делалась гораздо разнообразнее, а стало быть, и пестрее. Я уже был корреспондент и обязан был следить за всякими выдающимися сторонами парижской жизни.
До открытия Всемирной выставки на Марсовом поле, в апреле, я имел достаточно досуга, чтобы отдаться моему специальному интересу к театру.
Познакомился я еще в предыдущий сезон с одним из старейших корифеев «Французской комедии» — Сансоном, представителем всех традиций «Дома Мольера». Он тогда уже сошел со сцены, но оставался еще преподавателем декламации в Консерватории. Я уже бывал у него в гостях, в одной из дальних местностей Парижа, в «Auteuil».
Тогда он собирал к себе по вечерам своих учеников и бывших сослуживцев. У него я познакомился и с знаменитым актером Буффе, тогда уже отставным.
Для меня Сансон, вся его личность, тон, манера говорить и преподавать, воспоминания, мнения о сценическом искусстве были ходячей летописью первой европейской сцены. Он еще не был и тогда дряхлым старцем. Благообразный старик, еще с отчетливой, ясной дикцией и барскими манерами, живой собеседник, начитанный и, разумеется, очень славолюбивый и даже тщеславный, как все сценические «знаменитости», каких я знавал на своем веку, в разных странах Европы.
Сансон выпустил тогда в свет целую теорию сценического искусства в стихах, вроде «Эстетики» Буало. Книга называется «Театральное искусство». В ней александрийским размером преподаются разные афоризмы и правила и приведены случаи и анекдоты из истории, главным образом «Французского театра». Но эта книга (в своем роде единственная в литературе педагогической драматургии давала мне толчок к более серьезному знакомству с литературой предмета на разных языках.
Тогда я стал собирать и выписывать книги теоретического характера, и мемуары знаменитых артистов, и специальные сочинения по разным отделам театрального искусства.
Как преподаватель в классе Консерватории, Сансон держался тона учителя «доброго старого времени», всем говорил «ты», даже и женщинам, покрикивал на них весьма бесцеремонно и частенько доводил до слез своих слушательниц.
Преподавание драматического искусства находилось при мне в руках четырех «сосьетеров»: (постоянных членов труппы) Сансон, Ренье, Брессан и посредственный актер Тальбо.
Отдел этот составлял маленькое «государство в государстве». Главное начальство в лице директора, композитора Обера, ни во что не входило. Но я все-таки должен был явиться и к Оберу — попросить позволения посещать классы декламации, которое он мне сейчас же и дал.
Обер и в то время был уже старенький старичок, «в прошедшем веке запоздалый», употребляя стих Пушкина. Всякий принял бы его у нас за чиновника, состарившегося на департаментской службе: небольшого роста, худощавый, бритый, с седым старомодным хохлом и такими же «височками» и бакенбардами.
Принял он меня в салоне своей казенной квартиры в здании Консерватории, в зимнее пасмурное утро, очень рано. В салоне стоял старенький «фишель», покрытый суконным чехлом. На нем он сочинял, вероятно, свою «Немую из Портичи» и «Фра-Дьяволо».
Но и тогда еще, во второй половине 60-х годов, он только что поставил новую оперу на театре Opera Comique свою последнюю вещь. Она и названа им была «Первый день счастья». И главную роль он писал для хорошенькой певицы, бывшей воспитанницы Консерватории и его любимицы — Marie-Rose. Парижская стоустая молва повторяла, что эта молоденькая и чрезвычайно красивая девица была его возлюбленной! Эго — в возрасте-то сильно за семьдесят лет! Хоть бы впору олимпийцу Гете, который страстно влюбился на 75-м году и совсем было собрался жениться на девице Леветцов!
Консерваторская выучка имела очень сильные пробелы в своей программе. Начать с того, что разучиванья целых пьес, то есть создания ролей на настоящих ученических спектаклях, вовсе не полагалось. В зале классов имелась, правда, сцена, и вся она была устроена в виде театра. Но на этой сцене никогда не давали спектаклей. Ученики и ученицы выходили на подмостки и исполняли отдельные места из трагедий и комедий «классического» репертуара — и только. Стало быть, ни гримировки, ни костюмов, ни создания ролей, ни ансамбля — ничего. То же продолжается, кажется, и теперь. Французы — чрезвычайные рутинеры во всем, что отзывается «традицией», и до сих пор пресса не поднимала протеста против такой рутинной системы обучения.
Тогда, то есть во второй половине 60-х годов, не было никаких теоретических предметов: ни по истории драматической литературы, ни по истории театра, ни по эстетике. Ходил только учитель осанки, из танцовщиков, да и то никто не учился танцам. Такое же отсутствие и по части вокальных упражнений, насколько они необходимы для выработки голоса и дикции.