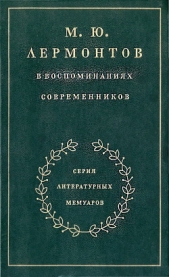В. Маяковский в воспоминаниях современников

В. Маяковский в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
В этой книге собраны воспоминания о Владимире Маяковском его друзей, знакомых, сверстников, современников. Разные это люди, их отзывы далеко не во всем совпадают, подчас разноречиво сталкиваются. Но из многих "мозаичных" деталей складывается портрет – большой и неповторимый. Мы начинаем полнее ощущать обстоятельства – жизненные и литературные, – в которых рождались стихи поэта. Как бы ни были подчас пристрастны рассказы и отзывы современников – их не заменишь ничем, это живые свидетельства очевидцев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Со мной же Владимир Владимирович был товарищески заботлив и дружен многодневно.
Из дореволюционных воспоминаний сохранилось в памяти особенно одно. В старой Москве, в Б. Гнездниковском переулке, на шестом этаже бывшего дома Нирензее, в феврале 1915 года Маяковский читал мне только что написанное "Я и Наполеон". Это была квартира Д. Д. Бурлюка, однокомнатная, с кухней, ванной и альковом для спанья. Маяковский почему-то имел от нее ключ – то ли Бурлюка не было в Москве, то ли он уходил по своим художным делам. Маяковский предложил мне слушать новое, только что написанное. В комнате, были огромные окна, с низкими подоконниками, на которых было удобно сидеть. Снизу подоконников подогревало водяное отопление, вообще было удобно и слушать и читать. Маяковский стоял в противоположном углу комнаты, с головой, как бы подчеркнутой линией панели обоев: "Я живу на Большой Пресне... // Место спокойненькое. Тихонькое, Ну? // Кажется – какое мне дело, что где-то в буре–мире // взяли и выдумали войну?" Я знаками отмечаю тогдашние интонации стиха. Начало презрительно пренебрежительное, с окриком "ну?". И вдруг на низких нотах, тревожное, как отдаленный гром: "Ночь пришла. Хорошая. Вкрадчивая. И чего это барышни некоторые дрожат, пугливо поворачивая глаза громадные, как прожекторы?"
Гром как-то идет волнами, отпечатываясь на некоторых слогах: "хоро", "вкра", "и чего это", "бары", "неко", "жат", "вора", "гро", "проже" – именно так шли волны голоса. В памяти остались отдельные строфы, как в выветрившейся надписи веков. "Тебе, орущему: "Разрушу, разрушу!", вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, я, сохранивший бесстрашную душу, бросаю вызов!" И опять "ору", "разру", "разру", "ночь", "окровав", "изо", "я", "храни", "бесстра", "саю", "ызов". Похоже было издали на громкоговоритель, тогда еще не знакомый слуху...
Прочитав, Маяковский зашагал по комнате. Я начал о чем-то постороннем, чтобы не впасть в телячий восторг, казавшийся мне граничащим с подобострастием. Маяковский остановился в упор: "А стих – как?" Из тех же соображений я начал вспоминать его ранее написанные стихи, как бы сравнивая их с этим. Маяковский яростно сверкнул глазами, загремел: "Да поймите же, что это самое лучшее, что я когда-нибудь написал! И вообще – последнее всегда самое лучшее!! Самое замечательное, лучше всего написанного в мире! Согласны?" – "Согласен". – "Ну то-то же, еще бы вы были не согласны!"
В пятнадцатом году Маяковский призывается на военную службу. Горький дал ему возможность не стать рядовым, устроив его в автомобильную роту чертежником. Горький относился весьма внимательно к росту таланта Маяковского. Впоследствии враги путем лжи и наговора восстановили их друг против друга. Но Горькому Маяковский во многом обязан в своем творчестве и, быть может, в главнейшем – обязан жизнью, тем, что не был послан в маршевую роту под немецкие гаубицы.
Первые годы революции мы с Маяковским не виделись. Я был на Дальнем Востоке. Но и там душевная связь с ним не прерывалась. Каждый из нас ощутил революцию как праздник. Солдатчина, "паршивейшее время" 20, была для нас обоих в равной мере ненавистна. Помню, как окольным путем получил в двадцатом году "Все сочиненное Владимиром Маяковским" – книгу, в которой была уже и "Мистерия–буфф", и "150 000 000". Читая эти вещи во временных ремонтных мастерских во Владивостоке, с радостью убедился, насколько доходчив его стих не только до моего сердца, но и до сердец широкой рабочей аудитории, слушавшей "Мистерию", затая дыхание, без перерывов и антрактов, восторженно ее принявшую.
В двадцать втором году мы встретились, как будто и не разлучались: все было общее – взгляды, вкусы, симпатии, антипатии. Маяковский хлопотал обо мне, устраивая мне жилье, работу; выводил меня в свет, заботливо обсказывая еще не знакомой со мной аудитории, кто я и что я. Закипела работа по изданиям, по писанию агитационных стихов, плакатов, государственных реклам. В работе Маяковский был придирчив и беспощаден ко всякой небрежности или недоделке. Ходили по разным учреждениям, по редакциям газет и журналов. Затем – журнал. Маяковский был и редактором, и автором, и производственником. Сидел ночами в типографии, выверял опечатки, следил за версткой. Такого рачительного хозяина журнала я не видывал ни до, ни после. Журнал саботировали в издательском аппарате. У Маяковского было много недоброжелателей. Но друзей было в тысячи раз больше.
В гневе я видел его по–настоящему один только раз.
Мы с ним выполняли плакаты с подписями, кажется, по охране труда. Работа была ответственная, сроки подходили к окончанию. Наконец, окончив все, проверив яркость красок и звучность текстов, мы, радостные, пошли сдавать заказ в учреждение. Но учреждение отнюдь не обрадовалось нам. Там сидел тот самый индивидуум, который послужил позже Маяковскому моделью для изображения главначпупса в "Бане". Толстенький и важный, он заседал с таким азартом во всевозможных комиссиях, что добиться приема у него не было возможно. Мы ходили трое суток, дежуря в приемной по многу часов. Дождаться приема не смогли.
Тогда Маяковский, чувствуя, что запаздываем со сдачей материала, прорвался к нему в кабинет сквозь вопли дежурной секретарши, ведя меня на буксире. Главначпупс был возмущен при виде вторгшегося Маяковского, у которого в одной руке была палка под мышкой, а в другой свернутые в трубку плакаты; за ним следовал я. Главначпупс поднялся с кресла во всем своем величии, которому, правда, не хватало роста.
– Маяковский! Что это вы себе позволяете?! Здесь вам не Политехнический музей, чтобы врываться без разрешения!
Он был пунцов от раздражения, он грозил Маяковскому коротеньким пухлым пальцем, всей фигуркой выражая негодование. А тут еще секретарша сбоку старалась выгородить себя, вопя, что Маяковский поднял ее за локти и отставил в сторону от защищаемой ею двери начальства.
Начальство свирепело все больше. Что-то вроде "позвольте вам выйти вон", с указующим перстом на выходные двери.
Маяковский вдруг внезапно положил трость на письменный стол, снял шапку с головы, положил плакаты на кресло и, опершись ладонями о стол, начал с тихой, почти интимной, воркующей интонацией:
– Если вы, дорогой товарищ...
Громче и скандируя:
– ...позволите себе еще раз...
Еще громче и раздельнее:
– ...помахивать на меня вашими пальчиками!
Убедительно и почти сочувственно:
– То я!
оборву вам эти пальчики!!
вложу в порт–букет!!!
Со страшной силой убедительности и переходя на наивысшие ноты:
– И пошлю их на дом вашей жене!!!
Эхо раскатов голоса Маяковского заставило продребезжать стекла. Начальство по мере повышения голосовой силы, как бы пригибающей к земле, начало опускаться в свое кресло, ошарашенное и самим гулом голоса, и смыслом сказанного.
Результат был неожиданным.
– Маяковский, да чего вы волнуетесь! Ну что там у вас? Давайте разберемся!
Плакаты были просмотрены и утверждены за десять минут.
Нет, конечно, не "дружина" и патриархат в искусстве подходят как определение взаимоотношений Маяковского с близкими к нему людьми. Скорее – товарищество, артель с бригадиром во главе. А то, быть может, и "министерство" искусств, неофициальное, но не менее влиятельное, чем управляемое А. В. Луначарским, зачастую наносившим визиты дружбы в маленькую квартиру на Водопьяном и Гендриковом.
Большинство старых литераторов еще не утрясло своих отношений с советской действительностью; из вновь пытавшихся занять их места пролетарских писателей многие были беспомощны в литературе. Пролеткульт только прокламировал свои установки, из которых ничего не выходило, кроме "однаробразного пейзажа" 21. Маяковский с пристальным вниманием отыскивал все наиболее жизнепригодное в поэзии "друзей поэтов рабочего класса" 22. Но уж очень невелики были знания – и, надо сказать, одаренность этого отряда новичков для серьезного дела новой поэзии. В большинстве случаев товарищи из пролеткультовцев шли в учебу к старым прописям поэзии, опасливо поглядывая на Маяковского, казавшегося им лишь попутчиком.