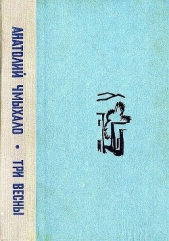Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уже все готово! — ответил я ему. — Кравчинский написал чрезвычайно поэтическую статью, начинающуюся словами... Впрочем, нет, я лучше прочту тебе конец ее целиком.
Я вынул статью из своего портфеля и начал ему читать:
«Оставьте катехизисы и учебники! Погрузитесь в великое море народное, раскройте ваши очи, разверзайте уши! Прислушайтесь к рокоту волн народной жизни, уловите ту струю, которая прямо брызжет из сердца народного, и тогда смело беритесь за руль вашей лодочки и сильным ударом бросайте ее туда, в самую середину ее! Радостно подхватит она вас и высоко, высоко подбросит на своих могучих волнах! Труден ваш путь. Много утесов и подводных скал коварно сторожат вас на пути. Немало водоворотов в глубине этого неизведанного моря. Нелегко отличить действительные жизненные стремления массы от уродливых болезненных продуктов ее ненормальных условий.
Но разве трудность пугает борца? Разве не в них черпает он новые силы для их преодоления? Веруйте в свой народ, веруйте в себя!» [67]
— Да, очень поэтически написано, — прервал меня Александр. — Но только ведь это все устарело. Мы все уже погружались в народное море и разверзали свои уши. Но что же нового для себя мы там услышали? Ряд матерных выражений, пересыпающих каждую фразу даже в приятельском разговоре? Ведь и сам ты говорил не раз, что мы, интеллигенция, должны поднимать полуграмотную часть населения, хотя бы она и была в тысячу раз многочисленнее нас, до своего умственного и морального уровня, а не опускаться до нее самим? А тут выходит как будто обратное.
Я несколько смутился. Статья Кравчинского действительно противоречила многому из того, что я уже не раз высказывал всем своим друзьям в частных разговорах. Но, когда Кравчинский прочел ее на первом же редакционном собрании мне и Клеменцу — редакция тогда состояла из нас троих — и Клеменц, потирая от удовольствия свои руки, сказал с многозначительным кивком головы: «Вот как надо писать!» — у меня не хватило духу возражать.
— Ты уже знаешь, — ответил я Александру Михайлову, — что я не против хождения в народ. Оно необходимо именно для того, чтобы всякий, кто туда пойдет в убеждении, что многому научится, увидел бы свою ошибку и, возвратившись в свою среду, стал бы сознательно бороться с нашим правительственным произволом, мешающим русской интеллигенции поднимать невежественные массы населения до своего уровня. Притом же переход от народническо-социалистических программ наших заграничных изданий к чисто радикальной интеллигентской программе едва ли возможен при наличии такого неслыханного во всем мире правительственного гнета над человеческой мыслью, как у нас. При нем интеллигенция всегда будет малочисленна и слаба качественно, за единичными исключениями, которые могут действовать лишь по способу Вильгельма Телля, как и сам автор этой статьи, только что поразивший шефа жандармов во имя чисто гражданских идеалов. Я думаю, что коррективом к его статье будет стихотворение Ольхина, которое я получил от него на днях и принес для помещения...
И, найдя в том же своем портфеле новый листок, я начал ему читать [68].
— Вот это, — воскликнул Александр, — настоящее стихотворение! Какое сильное!
— Да! — воскликнул тоже и я, обрадовавшись, что могу отклонить разговор от щекотливой для меня темы, на которую он перебросился благодаря так неудачно цитированной мною статье Кравчинского, зазывавшей интеллигентную молодежь снова купаться в простонародном море в то время, когда мы все, учителя, уже бежали из него и совсем не собирались в него возвращаться. — Да! Это лучшее из всех стихотворений, которые мне приходилось читать в нашей литературе, и знаменательно, что оно написано либералом, человеком, никогда не принимавшим активного участия в нашей народнической деятельности.
Все это показывает, до какой степени я был прав, утверждая, что истинное понимание наших целей и даже сущности западноевропейского социализма мы можем найти только в высокоинтеллигентной среде.
Александр, задумавшись, несколько раз прошелся из угла в угол своей комнаты.
— Мы, — сказал он наконец, — оказались теперь отогнанными самой судьбой от социалистической и народнической деятельности на арену политической борьбы за чисто радикальные идеалы культурных слоев русского населения, совершенно еще чуждые нашим крестьянам и рабочим, взятым в массе. Но мы не хотим в этом сознаться открыто и потому попали в какое-то двойственное положение. Мы делаем одно, а проповедуем совсем другое по какой-то инерции. Восстаем против старых «катехизисов и учебников», а пишем выводы именно по ним или даже хуже — по старым прописям... Будет ли от этого польза?
— Конечно, только вред, — ответил я ему. — Но поправить дело можно лишь постепенно. Все эти трафаретные фразы нашей народнической идеологии есть неизбежный результат небывалых в истории гонений на человеческую мысль и человеческое слово в России; они — продукт экзотической эмигрантской среды с ее растоптанными нервами и разбитыми сердцами. Я там жил и вполне понимаю все это. Благодаря пережитым в России личным неудачам и вынужденному бегству на чужбину с целью самосохранения там пропадает вера в возможность успешной деятельности интеллигентного общества как своего круга, вырабатывается презрение, даже ненависть к нему и к культурным слоям вообще; и как противовес — идеализация полуграмотных и безграмотных масс. А так как по цензурным условиям русской жизни только вольные заграничные люди могут печатать свои мнения, то эти же мнения воспринимаются нашей учащейся и, понятно, неопытной еще молодежью. Ведь вот и самое название нашего общества и нашего журнала — «Земля и воля» — разве не злостная насмешка над нами? Оно обозначает призыв идти в деревни бороться за землю и волю, а между тем именно теперь идет поголовное бегство из деревень последних народнических деятелей, которые там еще оставались, и ясно, что к весне, несмотря на все поэтические призывы Кравчинского, никто там не останется. А, однако, когда я сказал моим товарищам по редакции, что лучше бы назвать наш журнал «Свет и свобода», то никто и слушать не хотел, говорят: будет не понятно ни для крестьян, ни для учащейся молодежи. Да и самую начинающуюся теперь борьбу по способу Вильгельма Телля они стараются объяснить не нашим желанием достигнуть гражданской свободы, а только местью за погубленных товарищей.
— Но непосредственный стимул, — возразил Александр, — именно и есть месть. Кстати, вот тебе по этому поводу стихотворение, полученное мною недавно для напечатания где-нибудь. Оно написано после казни Ковальского [69].
— Непременно поместим, — ответил я, — в следующем номере.
Из вкоренившейся уже привычки никогда не спрашивать фамилий я не сделал этого и теперь — и потому до сих пор не знаю автора. Я уже не помню, чем кончился этот мой разговор с Александром Михайловым, врезавшийся в моей памяти, вероятно, потому, что положение редактора тайного журнала, издаваемого в самой России, было для меня еще ново, и потому все связанное с ним, как и всегда бывает в исключительных, непривычных условиях, запечатлелось особенно ярко.
Я помню только, что стихотворение Ольхина по поводу гибели Мезенцова, где давалось такое яркое освещение нашей тогдашней заговорщической деятельности в смысле борьбы не за экономические идеалы, а за гражданскую свободу всех, упало на мою душу как манна небесная, и я, перечитав его своим друзьям еще до напечатания десятки раз, запомнил его наконец наизусть. Оно же сделалось в моих глазах оправданием моего пребывания в редакции «Земли и воли», где часть руководящих статей казалась мне и тогда чем-то вроде церковных проповедей, в которых выработанный предшественниками обязательный стиль и шаблон исключают всякое оригинальное творчество или оригинальное освещение происходящего как вредную ересь. Я чувствовал, что был в это время в окружающей среде почти одинок в идеологическом отношении и что единственное средство достигнуть чего-нибудь в будущем было: не отделяться от остальных, не препятствовать им говорить, что хотят, но при всяком удобном случае рисовать самому или давать рисовать своим единомышленникам и другие перспективы, чтобы читатель сам мог выбирать между ними.