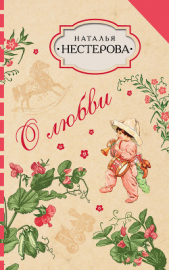О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
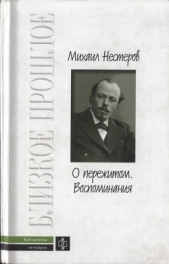
О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания читать книгу онлайн
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды, еще во время росписи Владимирского собора, Виктор Михайлович говорил о Семирадском. По его словам, Семирадский не скупился на похвалы картинам собратьев-художников, кои не мешали ему или были не опасны, и сугубо молчал, когда картина задевала его своими достоинствами. Тогда, бывало, не жди от него похвалы — не получишь.
Видел «Св<ятую> Русь» и Суриков. Он отнесся к ней явно недоброжелательно. Видела ее в Историческом музее и молодежь — г<осподин> Милиоти и другие из «Золотого руна», появившегося тогда взамен «Мира Искусства» [350]. Наговорили мне много любезностей, уверяли, что я еще полон сил, что «об уходе со сцены мне и думать нечего».
Тут же в Москве мне было сделано предложение участвовать со «Св<ятой> Русью» в Париже, что, однако, не помню почему, не состоялось [351].
В мае был я в Ялте, видел своих друзей, оттуда проехал на Кавказ. В Петербурге, да и по всей России, политический горизонт в тот момент был неясен: республика? диктатура? (чья?)? «Окрошка» или благодать Господня?
С Кавказа я проехал в Сергиев, где все напоминало мне молодость. Вот елочка, что написана на «Пустыннике». Она из маленькой и чахлой, когда-то своей юностью так раздражившая огромного Стасова, за восемнадцать прошедших лет стала большой кудрявой елью.
Пожив, поработав сколько-то в скиту у Черниговской, я еду опять на Волгу, в Чебоксары. Помню раннее утро, сижу на крыше своего домика на берегу Волги, пишу предрассветный этюд Заволжья и слышу — с реки несется протяжный крик. Всматриваюсь — ничего не видно. Крик повторился и смолк.
Часов в семь на берегу собрался народ. Машут руками, куда-то указывают. Что-то случилось. Иду и я посмотреть, послушать, узнать от скуки, в чем дело. Оказывается, крик, что я слышал рано утром, был крик утопающей молодой девушки-чувашки. Теперь собрались ее искать. Проискали до обеда — нашли.
Я ходил смотреть утопленницу. Она, совсем юная, лежит без одежды, как купалась. Лицо приятное, спокойное. Лежит как мраморное изваяние. На берегу много чувашей, женщин, девушек — ее подруг. Плачут, рассказывают, как было дело.
Завтра похороны. Все Чебоксары тут, в церкви, потом все идут за открытым гробом. Она, вся усыпанная полевыми цветами, лежит, как Офелия. За гробом плетутся отец с матерью, пригородные чуваши. Отец держится за гроб, оторваться не может. Дочка была одна и такая, слышно, ласковая, все ее любили.
Из Чебоксар я еду в Уфу, оттуда на Урал до Миасса. По дороге «Уральская Швейцария», ст<анции> Аша-Балашовская, Златоуст. Пишу этюды, еду дальше, к Миассу. Пошли Таганаи — Большой, Малый. То там, то здесь видны горные, полные по краям быстрой водой, реки. Вот и Юрюзань, многоводная, сильная. Она величаво катит свои воды почти в уровень берегов. Суровая, задумчивая и загадочная природа. Она глубоко проникает в чувство, в душу человеческую, оставляя в ней след чего-то смутного, угрожающего. Суровый, прекрасный край моя Родина!
Вот и Миасс. Перед глазами далекое озеро с гористыми далями, с голубоватыми сопками на горизонте. Я пишу подробный этюд озера, вошедшего позднее как фон в мою картину «На земле мир» (три старца на берегу озера). Тут, у ст<анции> Миасс, стоят пограничные столбы, разделяющие Европу и Азию. Вечером выезжаю тем же путем обратно.
В этот приезд мой в Уфу был начат портрет дочери в амазонке. Окончен он был осенью, когда мы вернулись с хутора в Киев, в 1907 году был на моей выставке в Петербурге и приобретен для Музея Императора Александра III.
Из Уфы посылаю письмо гр<афине> Софии Андреевне Толстой в Ясную Поляну такого содержания:
«Милостивая Государыня С<офья> А<ндреевна>! Приступая к выполнению задуманной мной картины „Христиане“, в композицию которой, среди людей, по яркости христианского веропонимания примечательных, войдут и исторические личности, как гр<аф> Лев Николаевич Толстой, для меня было бы крайне драгоценно иметь хотя бы набросок, сделанный непосредственно с Льва Николаевича. Я решаюсь потому через Ваше посредство обратиться с почтительной просьбой к Л[ьву] Николаевичу] разрешить мне с вышеупомянутой целью во второй половине июля приехать в Ясную Поляну. Буду очень признателен за ответ на настоящее мое письмо.
Тогда же, на опасения моего приятеля Т<урыги>на, как я «справлюсь с Ясной Поляной», я писал ему, что мне, надеюсь, поможет благоразумие. Побольше осторожности, искренности, простоты и сознания того, что ведь не на экзамен я еду в Ясную и что, хотя мнение Льва Николаевича и дорого для меня, но не за этим я еду к нему.
Цель моя очень определенная — написать с Толстого этюд, а все остальное имело значение относительное, и, если удастся попасть в Ясную Поляну (в чем я имел основание сомневаться, так как слышал, что Л<ев> Н<иколаевич> меня, как художника, не жаловал якобы давно и определенно), тогда те дни, что я проведу у Л<ьва> Н<иколаевича>, будут посвящены исключительно тому делу, за которым я приехал. Тем не менее я полагал, что «попотеть» мне придется.
В Княгинине я получил ответ С. А. Толстой. Вот что она писала:
«Милостивый Государь Михаил Васильевич!
Лев Николаевич все это время хворал желудочной болезнью и чувствовал себя слабым. Он говорит, что позировать не может, да и времени у него очень мало. Ехать Вам так далеко не стоит. Если бы Вы, ехавши куда-нибудь проездом, захотели взглянуть на него, то он ничего не имел бы против. — Все это его слова.
Что касается меня, я очень сочувствую всякой художественной работе и рада бы была помочь Вам, но Л<ев> Н<иколаевич> теперь очень постарел и ему все стало утомительно, что и понятно в его годы.
Желаю Вам успеха в Вашем замысле. Думаю, что Вы можете взять множество портретов Л<ьва> Н<иколаевича> и Вашим талантом, воображением создать то выражение, которое выразило бы Вашу мысль.
Письмо не чрезмерно любезное, но не отрезывающее мне путь в Ясную Поляну. [354]
19 августа я уже был там и писал в Петербург Т<урыгину>:
«Вот уже третий день, как я в Ясной Поляне. Л[ев] Николаевич], помимо ожидания, предложил мне позировать за работой и во время отдыха. Через два-три часа по приезде я сидел уже у него в кабинете, чертил в альбом, а он толковал в это время с Бирюковым — его историографом. Из посторонних здесь, кроме Бирюкова, сейчас нет никого. За неделю же до меня были Леруа-Болье и ваш Меньшиков, которому жестоко досталось от старика [355].
Л [ев] Николаевич] сильно поддался, но еще бодрый. Он скачет верхом так, как нам с тобой и не снилось. Гуляет во всякую погоду.
Первый день меня „осматривали“ все, а я напрягал все усилия, чтобы не выходить из своей программы. На другой день с утра отношения сделались менее официальные. Старый сам заговорил и, получая ответы не дурака, шел дальше. К обеду дошло дело до искусства и „взглядов“ на оное, и тут многое изменилось. В общем с Л[ьвом] Николаевичем] вести беседу не трудно, он не насилует мысли. Вечером наш разговор принял характер открытый и мне с приятным изумлением было заявлено: „Так вот вы какой!“ (разговор шел о Бастьен-Лепаже, о его „Деревенской любви“) [356].
Прощаясь со всеми, перед тем как идти спать, чтобы завтра чуть свет попасть на поезд, д<окто>р Душан Петрович Маковицкий, задержав мою руку в своей, заметил, что у меня жар. Поставили градусник — сорок! Мне сейчас же Л<ев> Н<иколаевич> принес свой фланелевый набрюшник, и я надел его и какую-то дикую кофту „Великого писателя земли Русской“. Меня уложили в постель, дали хинин и еще что-то и, благодаря усилиям доктора, утром я был вне опасности. Остался в Ясной, сделал несколько набросков с Л<ьва> Н<иколаевича> карандашом.
Я страшно рад, что решился сюда заехать. Живется здесь просто и легко, а сам Т<олстой> — целая поэма. В нем масса дивного мистического сантимента, и старость его прелестна. Он хитро устранил себя от суеты сует, оставаясь всегда в своих фантастических грезах.
Революционный опыт 1905-го здесь сочувствия не имел. Старик относится к революции уклончиво, предлагая свое „гомеопатическое“ средство — непротивление.
Ясная П<оля>на — старая барская усадьба, сильно запущенная. Все там сосредоточено на писательстве Л[ьва] Н[иколаеви]ча. Необыкновенная энергия графини (самого „мирского“ человека) направлена на то, чтобы старичина не выходил из своего художественно-философского очарования…»