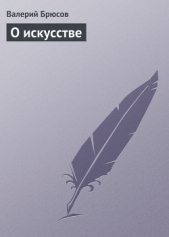Новеллы моей жизни. Том 1

Новеллы моей жизни. Том 1 читать книгу онлайн
В этой книге — как говорила сама Наталия Ильинична Caц — «нет вымысла. Это путешествие по эпизодам одной жизни, с остановками около интересных людей». Путешествие, очень похожее на какой-то фантастический триллер. Выдумать такую удивительную правду могла только сама жизнь.
С именем Н.И.Сац связано становление первого в мире театра для детей. В форме непринужденного рассказа, передающего атмосферу времени, автор рисует портреты выдающихся деятелей искусства, литературы и науки: К.Станиславского, Е.Вахтангова, А.Эйнштейна, А.Толстого, Н.Черкасова, К.Паустовского, Д.Шостаковича, Т.Хренникова, Д.Кабалевского и многих других.
Книга начинается воспоминаниями о детских и юношеских годах и завершается рассказом о работе в Алма-Атинском оперном театре в 1944 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я была встречена улюлюканьем, фразами, превосходившими все прежде слышанное.
«И вы туда же, милости просим в нашу выгребную яму…». «Нет, мы „да здравствует“ не кричали, с красным флагом не ходили…». «Расскажите нам о ваших идейных постановочках… Посмешите».
Я еле стояла на ногах после гриппа, но меня тут же назначили дежурить и дали грязное ведро и тряпку, от которой шел одуряющий запах. Вероятно, вид у меня был очень растерянный… На нарах раздался утробный смех: бывшая петербургская барыня, как она себя называла, по которой ползала кошка, особенно веселилась…
«Я — титулованная, но вот научилась убирать за моей кошечкой. Мужайтесь, советская героиня».
Последние слова она сказала фальцетом Бомелия из «Царской невесты» и как бы случайно бросила на меня кошкину подстилку.
Ржавое кособокое ведро с грязной водой было все же менее страшным, чем люди, которых я ненавидела еще больше, чем они меня, и с которыми оказалась так близко, рядом…
«Смотрите, — закричала „резвушка“ с верхних нар, — она до ведра даже дотронуться боится — эта наркомша…».
«Боюсь?» — я рванула ведро кверху, на кого-то плеснула грязной водой, кто-то ударил меня по голове, но дальше я не помню…
Все-таки мне в жизни чертовски везло: я потеряла сознание и лежала в глубоком обмороке, когда пришел конвой и меня увезли.
После болезни осталось тяжелое осложнение: правая половина туловища немощная, правая нога выше коленки стала на пять сантиметров тоньше левой — хожу на костыле, правая рука очень слаба, четвертый и пятый пальцы перестали работать совсем.
Меня перевезли за реку в инвалидный дом, сознание вернулось полностью, и надо куда-то его запрятать. Зима еще спорит с весной. Тут есть курсы медсестер. А что? Запишусь и я. Местная докторша дала мне толстенную книгу — «Пособие для среднего медицинского персонала». Зубрю ее прилежно. Записываю левой рукой — надо приучаться, неизвестно, как будет с правой. Но хотя книга и ее латынь — прекрасный наркоз, спрятаться от мыслей о маме, о детях, о Заре, о Москве, о театре, уйти совсем от себя — очень трудно.
С кем отвести душу? Сторож дядя Влас почти ничего не слышит. Седая знахарка на кровати рядом знает все приметы и любит гадать. Больше ее ничего не интересует.
Однажды проснулась в блаженном состоянии. Приснилось, что я ем свежие теплые булки, их было много, сколько хочешь, вкусные. Соседка-знахарка сказала мне авторитетно:
— Сон к счастью.
Я надела выданный мне бумазейный халат, посмотрела в осколок знахаркиного зеркала на свою обритую голову, взяла костыль и пошла к умывальнику. С видом заговорщика меня поманил пальцем дядя Влас:
— Мамаша к тебе приехала. Держись, не переживай. Свиданки добивается.
Ма-ма? При-е-ха-ла? Костыль упал, я села на подоконник и уставилась глазами в окно. Не может быть! Дядя Влас подал мне костыль. Неужели такое счастье возможно? Но нет. Как она могла узнать адрес? Но тут открылась дверь, и на пороге больницы, двумя руками обняв чемодан, появилась моя мама. Увидев меня, бритую, с короткими ростками совсем седых волос, с костылем, она в ужасе сделала шаг назад, но сразу взяла себя в руки, шире возможного улыбнулась и красивым сочным своим голосом сказала почти спокойно:
— Здравствуй, родная!
Мама была одета в мою обезьянью жакетку, шапочку с мехом, она была такая молодая, родная и… вольная. Я не смела плакать и смотрела на нее, как на чудо. Тогда мама поставила на деревянную лавку чемодан и открыла его: там были мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко и кофе, апельсины и жареные фисташки, все, что я когда-то любила и о чем сейчас даже не мечтала. Я стала целовать мамины руки, снявшие с меня ужас одиночества. Потом я прижалась к ней крепко, и мы сидели на деревянной скамейке молча. Не плакали — я берегла ее, она — меня.
Много позже узнала, с каким трудом мама установила, что я в Сиблаге, как «шестым чувством» поняла, что я больна, как по недосказанному и намекам решила направить путь к этой больнице, как пошла «для сокращения пути» со своим чемоданом, обхваченном обеими руками, прямо через реку, по начавшему таять льду, а льдина с ней и чемоданом оторвалась и поплыла в другую сторону; так двое суток то пешком, то на попутных лошаденках мама двигалась к нашей лагерной больнице. А сколько рассказов о моей работе в Детском театре, о моем недавнем прошлом, сколько обаяния потратила она, прежде чем начальник этого участка рискнул ее пустить ко мне.
Мама была у меня два часа утром и два часа вечером. Какое счастье! Как она поддержала меня.
Это Шиллер. «Двое Фоскари».
Да, я была в тот момент дряхлой — ее вера и молодость зажгли мое желание жить, жить во что бы то ни стало.
После встречи с мамой появился мостик, соединивший меня с родной Москвой. Ее письма, посылочки, как некий Гольфстрим, согрели, подняли дух, волю к борьбе за свое здоровье. Когда меня перевели в Мариинский лагерь, вдруг почувствовала прилив жизнерадостности. Мама, ты мне дала жизнь дважды!
Помню, как в присланном мне мамой розовом платье, с уже отросшими бело-серебряными волосами, с неожиданно помолодевшим лицом сидела я на траве около клуба и радовалась всему: солнцу, дереву, раннему утру, возможности шевелить обеими руками и ногами.
Вдруг на горизонте показывается мощная фигура в брюках-клеш, не иначе какой-нибудь урка. Он было прошел мимо, но несоответствие молодого лица и седых волос вызвало его желание остановиться. Указав вторым пальцем правой руки на мои седые волосы, он спросил:
— Под «вышкой» сидели?
— Нет.
— Какой срок имеете?
— Пять лет.
Урка презрительно улыбнулся:
— Из-за этого седеть? Какие вы мизерные!
Высокомерно подняв голову, он удалился. А я смеялась долго, весело…
Как я была рада, когда мне разрешили принять участие и в клубной работе. Прежде всего организовала хоровой кружок. Песню Дунаевского смешанный хор из тридцати двух человек запел сначала на два, потом на три голоса. Когда мне разрешили выступить на сцене этого клуба, исполнила любимые стихи Агнии Барто о детях: «Ку-ку» и «Болтунью». Мысленно переносилась в год 1936-й, в Москву, когда Сергей Сергеевич Прокофьев по моей просьбе написал музыку к этим стихам и мне этот музыкальный монолог посвятил.
Вспомнила нашу домашнюю работницу Клавдию… Мама как-то ее спросила: «За что вы так любите Наталию Ильиничну?» Клавдия ответила: «Она — простая».
Может быть, я и была чересчур «простая», но любила выступать везде, где слушали, радовалась, что стою хоть на каких-то подмостках.
Потом возникла у меня идея поставить «Бесприданницу» Островского и сыграть Ларису.
Двадцатидвухлетняя Шура С. в роли Огудаловой была сочной и колоритной. У нее была какая-то вкусная русская речь; до сих пор помню, как она произносила «Мокий Пармёныч». Сидела она за убийство мужа:
«Он старше меня был. Любила, как святому, верила. Была у меня лучшая подруга, Ольга. Один раз прихожу с работы раньше времени. Они вдвоем в кровати нашей. Меня и не видят. Помутилось в глазах, схватила топор — в углу стоял — обоих враз зарубила. В милицию после убийства прибежала сама».
В роли Кнурова интересен был Гриша М. Когда они с Вожеватовым разыгрывали Ларису в орлянку и Гриша бросал монету и нагибался, чтобы увидеть, «орел или решка», правды в его движении было больше, чем у многих профессиональных артистов. Азартные игры были его страстью.
Месяца два странная моя труппа ходила за мной следом, и в их «обществе» я выглядела почти девочкой. Рослые, видные, физически сильные — страшноваты, конечно! Меня слушались, как маленькие. Несмотря на свое прошлое, тянулись к культуре, театру, ценили спектакль, вдохнувший в них свежий воздух.
Гриша считался в лагерях знаменитым краснодеревщиком. Нам разрешили показывать «Бесприданницу» не только в Мариинском, но и в соседних лагерях. Когда нас встречали, на меня и внимания не обращали, но шептали восторженно: