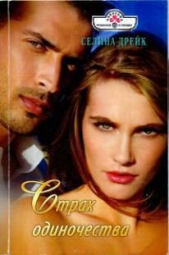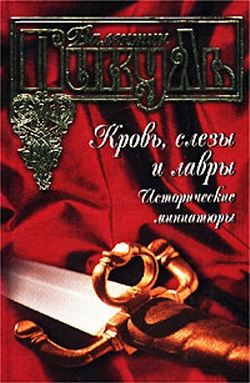Записки баловня судьбы
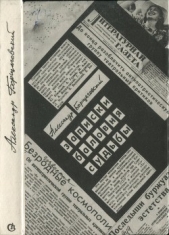
Записки баловня судьбы читать книгу онлайн
Главная тема книги — попытка на основе документов реконструировать трагический период нашей истории, который в конце сороковых годов именовался «борьбой с буржуазным космополитизмом». Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Казалось, судьба книги решена, обычно требовались всего две рецензии, если обе положительные, а тут их четыре, и каких авторов! Передавая рукопись и рецензии любезному Петру Чагину, я, баловень судьбы, верил, что дорога роману открыта.
37
А крестный путь только начинался.
Функционеры, чьи карьера и образ мыслей корнями уходили в благодетельный для них 1937 год, делали все, чтобы придать гонениям на «безродных космополитов» видимость государственной нормы, исторической «справедливости» и естественного климата жизни страны.
Университеты, вузы, научно-исследовательские институты, лаборатории, а то и города выталкивали, «выдавливали» из себя преследуемых. Принуждение к уходу, отъезду, к бегству бывало прямым административным и экономическим, осуществлялось путем систематической травли и унижения. Еврейские писатели, жившие в России, Белоруссии и на Украине, оказались в тюрьмах и лагерях.
Абрам Акимович Гозенпуд, человек редкого таланта и обширнейших познаний, только что, в 1948 году, приглашенный в Малый театр заведовать литературной частью, был тотчас же изгнан оттуда. Он возвратился в Киев и вскоре под угрозы и улюлюканье бежал в Ленинград.
В Бухаре очнулся, придя в себя, литературовед Яков Гордон, автор серьезных исследований о судьбах творчества Гейне в России, изданных в Японии и ФРГ, автор многих книг о связях мировой и русской литературы с историей и культурой Средней Азии.
В Душанбе оказался после нескольких лет блужданий молодой театральный критик Милявский, а его друг и соавтор Лев Жаданов, тоже живший в Харькове, был арестован в 1950 году и провел в лагере несколько лет.
Перебирая в памяти только своих друзей и добрых знакомых, я мог бы назвать десятки честных людей, выброшенных вдруг на обочину жизни, ошельмованных, вынужденных мигрировать в поисках мест, где их труд будет признан или терпим.
Я не историк, говорю о времени без цифр и статистических материалов, касающихся травли десятков, если не сотен тысяч людей. Говорю о времени, когда Аркадий Первенцев, родившийся в далеком 1905 году, в 1949-м, сорока четырех лет от роду, спустя пять лет после Победы, подал наконец заявление в партию, заявив, что теперь партия, взявшая курс на изгнаний «безродных», «подходит ему, и нечего больше ждать и колебаться». И новообращенный член партии Аркадий Первенцев принялся активно выполнять обязанности коммуниста, как он их понимал: защищать в партколлегии ЦК ВКП(б) авантюриста Сурова, запугивать Лесючевского тяжкими карами, если он посмеет напечатать книгу Борщаговского.
Год за годом до весны 1953-го гонители «безродных космополитов» опускали перед нами шлагбаум, демагогически провозглашая: «навредил» в критике, в ней же ищи искупления! Последним в марте 1953 года, после смерти Сталина, сей категорический императив повторил в докладе набиравший тогда силу в ССП СССР Виталий Озеров, требуя исключения из Союза семидесяти пяти критиков, почти сплошь евреев. О десяти из них он говорил персонально, в том числе и обо мне. Он бросил в зал одну-единственную саркастическую фразу: «Бывший критик Александр Борщаговский романами, видите ли, занялся!» А ведь моя книга к этому времени имела более 20 внутрииздательских рецензий, была набрана и рассыпана и теперь набиралась вторично. Но нет, нельзя! Ты критик, права заниматься критикой мы тебя лишили и теперь прогоним вон за «…творческую пассивность».
Озеров — послушный исполнитель. Сам он не придумает ни милости, ни покарания. Какие же страхи владели им в тот мартовский день? Почему и Алексей Сурков дрогнул уже после смерти Сталина и освятил позорное собрание критиков своим председательством, зная, какой там будет поставлен вопрос? Чего так испугались в Союзе писателей на исходе марта 1953 года? Вспомним, что в марте 1953 года еще в силе «либерал» Берия, готовилась реабилитация «убийц в белых халатах», страна жила слухами, никто не мог сказать, принесет ли смерть «отца народов» облегчение «безродным», или теперь только и наступит отмщение за все, в том числе и за утрату «великого Вождя»? Верно, и его извели, уже давно у нас никто не умирал натуральной смертью, всякая имперского ранга смерть — превосходный повод для многих других насильственных смертей…
К марту 1953-го я вернусь, а пока я несу рукопись и рецензии Петру Чагину, еще не зная его популярной в писательских кругах клички: Обещагин! Я полон иллюзий, почти жалею Александра Бека, который, встретив меня в коридоре «Советского писателя», улыбается, спрашивает, что это такое тяжелое я несу, не гонорар ли за роман?
«Нет, — отвечаю. — Это рукопись, но все хорошо, все будет в порядке.» Он все так же, с улыбкой, но уже грустной и сардонической, говорит, что желает мне успехов, но все-таки, все-таки если я хочу выжить, то, вернувшись домой, я должен, не откладывая, приняться за новую книгу, писать ее и, пока будут тиранить старую рукопись, занять новой работой голову и сердце, — только это может гарантировать «экономическое выживание…»
Странный человек! — думаю я, на миг теряя приязнь к нему Какая новая книга? Какой дом, нет у меня дома. Мы скитаемся по городу Бабушкину, только что перетащили на горбу узлы с Медведковской, № 19, из комнаты без внутренней двери, с обоями, которые то и дело поднимает ветер, в комнату на той же Медведковской, № 24. У меня нет ничего, кроме семьи и этой вот рукописи, которой предрекают незатруднительное будущее.
И Чагин — такой славный, сочувствующий, такой основательный, спокойный, грузноватый, живописный Чагин, друг Есенина, старый, опытный издатель, обласкивает меня надеждами, — все будет хорошо.
А Лесючевский ведет себя так, будто ничей глаз еще и не касался страниц моей книги. Можно ли уважать даровые отзывы, за которые не плачено издательских денег?
Книгу читает заведующий редакцией русской прозы Кузьма Горбунов, с этого времени он последовательный ее защитник. Член правления «Советского писателя» Юрий Либединский дает развернутый, в половину авторского листа, разбор рукописи и заключает его утверждением, что «роман безусловно нужно принять к печати». «Весь роман в целом — подлинно художественное произведение, ярко отображающее великий патриотизм русского народа, — пишет второй издательский рецензент, историк, бывший дипломат, неведомый мне и по сей день В. Броун. — Он является ценным с исторической и художественной стороны произведением. Его следует напечатать».
Итак, издательство получило еще две рецензии, выбрав авторов, чьим отзывам обычно вполне доверяло.
Но как неуютно Лесючевскому: с одной стороны, одобрительные отзывы, с другой — гневный натиск писателей-«патриотов», не готовых простить «безродного космополита», что бы он там ни насочинял, и требующих от издательства такой же непреклонности. Выход есть: гнать роман через рецензентский строй, найдется же кто-нибудь, если не со шпицрутеном в руке, не с арапником, то хотя бы с розгой!.. Хорошо бы рукопись осудил кто-нибудь из бывших флотских офицеров. История историей, ее академик Тарле, конечно, знает, а как обстоит дело с парусной «Авророй», с англо-французскими фрегатами? Так ли ставились и убирались паруса сто лет тому назад, как это изображает автор?
Лавренев успокоил издательство: все верно, все описано так точно, что автор, видимо, сам служил на флоте. Лавренев успокаивал, а Лесючевский тревожился: неужели нет выхода и надо подписывать в набор?
И выход нашелся; не шедевр же сочинил бывший критик, Тарле, кстати, писал о сценах удачных и неудачных, и никто из хваливших роман не находил его безупречным. Вот и нужен строгий и требовательный рецензент; пусть он даже признается в недостаточной исторической осведомленности, но защитит высокие и святые позиции художественности.
Таким требованиям ответила Вера Васильевна Смирнова, человек тонкого вкуса, критик с высокой репутацией, всегда в стороне от нечистых страстей и групповых пристрастий.
Вера Смирнова! Вера Смирнова, боль моя и недоумение… В тридцатые годы я знал ее сестру, соруководителя новаторского театра «Шахтерка Донбасса»; знал и имел возможность помогать ей и ее мужу. В Москве познакомился с В. В. Смирновой и проникся почтительным чувством к этой благородной женщине, к ее несуетности, прекрасной русской речи, ее интеллигентности. Но как, оказывается, трудно сохранить все эти добродетели, когда жизнь, тяжкая, драматическая по личным обстоятельствам, прибила тебя, как челн к отмелому берегу, к одному издательству и ты, зависимый, с годами хорошо узнаешь свое начальство, угадываешь даже немые его просьбы!