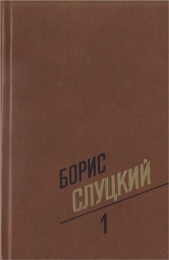Борис Слуцкий: воспоминания современников

Борис Слуцкий: воспоминания современников читать книгу онлайн
Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.
О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.
Для широкого круга читателей.
Второе издание
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хорошо, завтра поработаем.
Она считает шитье нашей общей работой.
Общей работой были для меня разговоры со Слуцким. Он считал, что у меня хорошо обстоит дело с интуицией, но ему этого было мало, и он добивался от меня формулировок и аргументации «ощущений». Если я долго не «работала», он говорил:
— Вы на уровне подвязки и пряжки. Поднапрягитесь-ка, матушка.
Если мне удавалось облечь неясное в стройную, понятную мысль, он говорил:
— Да… высекли в мраморе.
Так что беседа с ним была увлекательной, но трудной «работой». Было похоже на экстрасенсный сеанс. Словно где-то стучало: «Думайте, думайте». И это было и радостно, и интересно.
Как-то он прочитал мне портрет в стихах. Мой портрет. Я прореагировала вяло, по чисто женской привычке смотреться в людей, как в зеркало, — «хороша ли?», — а там про это ничего не было. Стихи были вовсе не альбомные. Он больше мне их не читал, я их не слышала. Помню только первые строки:
Я действительно периодами способна угадывать время до минуты. Это очень забавляло Слуцкого, и он все спрашивал: «А теперь сколько?» Я чеканила ответ, понимая, что это он про время, — он сверял по часам и говорил торжественно: «Да, это у вас получается».
А многое у меня, конечно, не очень получалось! И он говорил: «У вас, Наташа, ума палата, но все пристройки к ней заняты глупостями».
Ему нравилось, я думаю, дело воспитания моего достаточно недисциплинированного и строптивого мыслительного аппарата, где всё вразброс, что давало ему основание называть меня «Ваше необразованность» и говорить: «Вы похожи на подмастерья, который думает про себя: „ты только покажи, как ты это делаешь, а уж я тебя обштопаю“…»
Я действительно рада была что-то знать, понимать или делать лучше его. Мне это редко, но удавалось — там, где нужна была пластичность, вспышка интуиции, просто мысль «очертя голову». («Вот так вылилось, и всё тут».) Его это веселило, и он говорил: «Да, вы что-то очень разгулялись, не пора ли вас пообижать?» Но я не обижалась, мне тоже было весело, что сейчас он меня «умоет» — задаст несколько простеньких конкретных вопросов «по фактам истории и культуры», а я, конечно же, попытаюсь отбиться, но потом он мне все как надо сформулирует, да так, что дух захватит, и скажет: «Я бы книжечки читал посерьезнее, а то читаете, знаю я вас, что в руки попало и — по диагонали».
Что правда — то правда.
Были в стихотворном портрете, помню, и такие строки: «…И когда, бледнее мела, она блестяще болтала…» Действительно, когда после многочасового разговора мне случалось глянуть на себя в зеркало, я видела, что я «бледнее мела». Таким трудным и высоким был для меня уровень разговора, так нельзя было в нем фальшивить, халтурить и выпендриваться, а только — «расковаться» и быть как на духу.
Он часто заставлял меня думать о том, что я старалась недодумывать. И не только думать, но и давать оценку — самой себе в частности. Помню, во время борьбы с космополитизмом я в какой-то момент перестала читать газеты: далеко не все «выкрикнутые космополиты» и до этого были мне симпатичны, — в общем, попробовала жить так, как будто меня это не касается. При встрече он быстро уловил
это мое «облегченное состояние» и безжалостно заставил меня признаться себе и ему, что я боюсь, трушу, «а дело заваривается подлое, страшное, и вы не смеете этого не понимать». Я уставала от необходимости держаться, мне очень хотелось закрыть глаза и не заметить падения. Много позднее он сказал, что тогда уберег меня от большой беды.
Он часто говорил, что «набит тайнами». Конечно, не только я, но и многие, многие другие грузили на него свои беды, ужасы, горести и сомнения. Человек Слуцкий, наверное, изнемогал под этой, своей и чужой, тяжестью. И вот ушел, вдавленный этим грузом в безвоздушную немоту, — его нет, но всплывают теперь на месте крушения его стихи: то, что следовало сохранить, он сохранил и даже знал и точно определил, кому доверить самое ценное. Его душеприказчик — Юрий Болдырев — поразил меня при встрече духовным родством со Слуцким и способностью к самоотреченному служению. Он Слуцкого воистину жалел и любил.
Однажды в 70-х годах в одном доме на веселой пирушке я почувствовала показавшееся враждебным внимание незнакомого мне прежде дальнего родственника хозяев. На следующее утро мне позвонили хозяева дома. Этот человек, когда все ушли, долго расспрашивал обо мне, потом очень сбивчиво рассказал, что мальчишкой был в одной камере с моим отцом на Лубянке, был подсажен; что отец — опытный подпольщик — сразу понял это и жалел его, несмышленыша, делился с ним тем немногим, что у него было, пока не ушел навсегда. Отец поразил его своей человечностью и мудростью.
— Передайте ей, что она дочь замечательного человека, она должна это знать.
Он собирался побыть в Москве еще, но уехал, потрясенный этой встречей. Я понимала, что его потрясло. Я показалась ему нарядной, благополучной — беспамятной. А он помнил уход из жизни моего отца, и ужасен ему был этот контраст, да и совесть мучила…
Будучи в полном смятении, я позвонила Слуцкому. Он был занят, но, по голосу поняв, что «надо», вышел — мы встретились на середине «нашего» пути в Тимирязевском парке, сели на пеньки, стоявшие поодаль друг от друга. Было начало лета. Зелень была легкая, сквозная. Гуляли дети и пенсионеры, белки выступали за угощение перед толпой. Я сказала ему про эту встречу. Он выслушал, глядя перед собой, не повернув ко мне головы, потом промолвил:
— Ну что ж, все очень вероятно, даже, скорее всего, так и было.
Вот и все… Он не произносил никаких слов убеждения, и мне не они были нужны, нужно было при нем понять себя и сверить мою беду с масштабом общей беды. Надо было услышать: «Мы еще добредем». Он встал первый и сказал: «А теперь я вас покину, а вам нужно выпить крепкого чаю… и хорошо бы пошел дождь… насколько я знаю, вы любите дождь, летний… впрочем, снег вы тоже любите. Но это метеорологически мало вероятно сейчас».
Моя беда поступила на общее вечное хранение.
Осенью 47-го года я с моей подругой и однокурсницей Дорой с огромным удовольствием прогуливалась вечерами по улице Горького. Еще той улице Горького, где можно было вечерами встретить всю Москву, «знатных» людей, замечательных актеров и режиссеров, которые особенно были нам, студентам режиссерского факультета, интересны, и просто знакомую молодежь.
Бедны мы были очень, в буфете ГИТИСа давали суфле и бутерброды с перловой кашей, — значит, были и не очень сыты и вовсе не одеты. Что-то такое перешивали, перекрашивали, перевязывали и донашивали. А доносив, снова перешивали и перекрашивали и опять носили. Но были крайне независимы, самонадеянны, как подобает студентам начальных курсов творческих вузов, и полны жадного интереса к людям, который мы считали к тому же еще и «профессиональным».
Обе мы были в искусстве людьми «безродными» — никто не был с нами ни в родстве, ни в знакомстве. Никто из близких и родственников не имел ни малейшего отношения к театру, и, может быть, поэтому для нас трагедии и катастрофы этого мира были еще несущественны и ограничивались песенкой «Чтобы большим актером стать, да, да, стать, да, да, стать, всю систему нужно знать, нужно знать, да. Где, как и в чем играл Качалов, да, да, Качалов, да, да, Качалов, каким нутром играл Мочалов и в чем Охлопков виноват?»
Мы всё это знали и очень звонко могли петь. Юношеский нигилизм и насмешливость бушевали в нас вовсю, а в орбиту непесенного, некуплетного жанра мы попали чуть позднее, в 48-м, и до конца последующих лет.