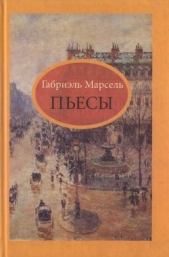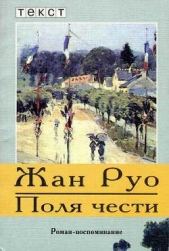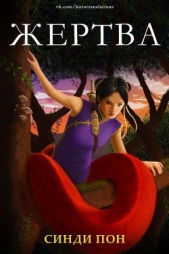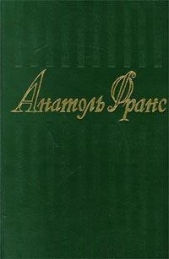Непостижимая Шанель
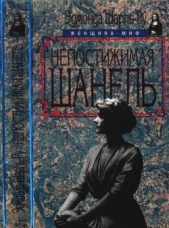
Непостижимая Шанель читать книгу онлайн
Эдмонда Шарль-Ру предлагает читателям свою версию жизни Габриэль Шанель — женщины-легенды, создавшей самобытный французский стиль одежды, известный всему миру как стиль Шанель. Многие знаменитости в период между двумя мировыми войнами — Кокто, Пикассо, Дягилев, Стравинский — были близкими свидетелями этой необычайной, полной приключений судьбы, но она сумела остаться загадочной для всех, кто ее знал. Книга рассказывает о том, с каким искусством Шанель сумела сделать себя совершенной и непостижимой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летом 1935 года Ириб упал на теннисном корте в тот самый миг, когда к нему присоединилась Габриэль. Он едва успел остановить на ней взгляд. Когда его подняли, он не подавал признаков жизни. Он умер в клинике Ментоны, так и не придя в сознание.
Лазурный берег во всем своем летнем великолепии и, как и во времена смерти Боя, потрясение, пережитое во второй раз.
Габриэль страдала невыносимо.
Но почти не жаловалась.
Вновь примчалась Мися. Тонкая натура, она отнеслась к молчанию Габриэль с трезвым, критическим вниманием. Она умела правильно понимать, что в этом молчании кричало о несчастье, а что его скрывало. Она поняла его, как и следовало понять: как страшный крик. Какую только помощь не получила Габриэль от подруги, с которой больше не расставалась.
Проходили недели.
Под сияющим солнцем римского августа молодцы в черных рубашках орали: «Мы хотим места под солнцем» и обливались потом. Из-за жары… Муссолини обещал им африканские приключения. Ошеломляющие заявления, сделанные им представителю британской прессы, немедленно отразились на англичанах с Лазурного берега. Вокруг Габриэль царило всеобщее смятение. Все считали, что Муссолини блефует, и с некоторой торжественностью комментировали «Дейли мейл».
29 августа раздался голос того, с кем были связаны надежды левых и ненависть правых: «…Пусть наши услужливые коллеги и правительство зарубят себе на носу простую истину: если в Эфиопии начнется война, никто, как бы хитер он ни был, будет не в состоянии измерить или ограничить ее последствия» [127]. Но «Попюлер»… Кто в этих кругах читал «Попюлер»?
Начался новый сезон.
Октябрь приготовил бомбу: итальянская агрессия в Эфиопии. Решительно, сезон начинался скверно.
Габриэль вернулась в Париж. Она снова была одна, снова ей приходилось в одиночку выбирать, решать, придумывать. Она строила планы. Она согласилась выслушать Кокто, говорившего ей о пьесе, которую он собирался написать, — «Царь Эдип». Он хотел, чтобы Габриэль сделала для нее костюмы. У Жана Ренуара в голове был замысел фильма «Правила игры». Он тоже хотел ее участия. «Красивый фильм, знаешь, со звездами… Полетта Дюбост, Мила Парели». Он настаивал, чтобы она согласилась.
Так каждый старался вылечить Габриэль работой. Но для тех, кто ее хорошо знал, сомнений не было: она уже не та, что прежде. Счастье, навсегда ставшее несбыточной мечтой, — в этом и была перемена, этим и будет объясняться все остальное.
III
Незабываемая радость
Необычный наступал год — насилие, безумства, ясная апрельская погода и звуки аккордеона.
Но начнем все по порядку. Разгул фанатизма достиг во Франции небывалых размеров. Словно на страну напало безумие… Был Блюм, которого 13 февраля вытащила из автомобиля группа молодых «патриотов» и избила. Рабочие с соседней стройки едва спасли его и отвезли в больницу. Таково было положение дел во Франции в 1936 году. Были вещи и пострашнее, когда приходилось читать: «Блюм — не англичанин, не немец, не француз: он иностранец. Его судьба быть Разрушителем… Это человек, чьи подошвы оставляют на нашей земле жирные следы гетто, из которых он вышел».
Потом в рейнской зоне немецкой армией был нанесен удар крупными силами, и, чтобы как-то ответить на откровенный вызов, состоялись деликатные переговоры правительственных чиновников. «Символическая оккупация», — заявил барон Константин фон Нейрат [128] послам Франции и Англии, и, скорее всего, этот человек, принадлежавший к другой эпохе, верил в то, что говорил. Были слова, звучавшие по-новому, слова угрожающие, но не нарушавшие прежние привычки. Таким было, например, слово «Schulung», которое кричали в военные телефоны, «Schulung» — и молниеносная операция, первая в долгой череде других, началась. «Schulung! Schulung!» — и рейхсвер вошел в Рейнскую область, это было в субботу 7 марта, когда члены британского кабинета соблюдали традицию уик-эндов.
Дипломаты с мест, знавшие все, информировали столичных дипломатов, которые ничего не желали знать. В депешах французского консула в Кельне содержались сообщения о том, что немецкие казармы растут, расширяются аэродромы и что, прикрываясь гражданскими обязанностями, массированно прибывают военные. Настойчивость его осталась безрезультатной. На набережной Орсэ методичные чиновники получали его депеши, прочитывали их, затем подшивали в папки, но в расчет не принимали.
Необычный год когда даже погода была не по сезону. 26 апреля 1936 году над Францией шел дождь. Лил как из ведра. Некоторые политики надеялись, что потоп помешает французам прийти на выборы. Но 85 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Это была победа Народного фронта.
В богатых кварталах выжидали. За закрытыми ставнями опасались разгула народных страстей, до которого, впрочем, не дошло. Одна агрессивная дама из хорошего общества поджидала Блюма, чтобы «плюнуть ему в физиономию». А другая, настроенная менее воинственно, писала подруге в Рим: «Моя дорогая, в Париже творятся ужасные вещи. Мой парикмахер заставил меня ждать: Принцесса, сказал он мне, люди моего положения тоже имеют кое-какие права… Вот до чего дошло!»
Враждебность состоятельных кругов была всеобщей, но выражалась она по-разному: по свирепости узнавали тех, чьи капиталы были уже за границей, по панике — тех, кого события застали врасплох. Все покупали золото. Таковы были в 1936 году настроения социального слоя, поставлявшего Габриэль основную клиентуру. Но она ни одного дня не оставалась за закрытыми ставнями, и Дом Шанель, распахнув двери, продолжал ждать затаившихся заказчиц.
Биржа рухнула.
Это положение, определявшееся деловыми людьми как катастрофическое, было столь же неблагоприятно для тех, кто хотел навязать стране новую социальную политику. Новые правители не хотели, чтобы судьба Франции решалась в финансовой сфере. Они не прибегали к замысловатым, полупонятным фразочкам, которые используют гадалки на кофейной гуще. Нет. Это была весна простых слов, их можно было слушать и понимать, не имея образования: сорокачасовая неделя, коллективные договоры, оплачиваемые отпуска, амнистия — это было понятно всем. Понятно французам, понятно иностранцам, так понятно, что слова эти докатились даже до каторги в Кайенне, до тюрем Магриба и Левана: «политики» договорились объявить об освобождении заключенных.
Но это было только начало.
Затем пришел черед других реформ: национализация военной промышленности, реформа Банка Франции, продление школьного обучения и т. д. Ради этих целей впервые в истории страны к власти пришел социалист и к тому же еврей.
И когда обрушилась майская волна, когда рабочие стали все чаще занимать заводы, угрожая жизни страны, тогда была произнесена фраза, тоже простая и тоже понятная: «Нужно уметь не только начать забастовку, но и закончить ее» [129]. Сказано без двусмысленностей. Работа возобновилась, экономика снова пришла в действие, и страна отпраздновала 14 июля.
В тот день парижский народ охватила всеобщая радость.
Как же короток оказался праздник… Но несмотря на поражения и иллюзии — через три дня начнется война в Испании, несчастья последуют одно за другим, и Бог свидетель, сколько их будет, а затем наступит 1939 год, когда каждый, будь то рабочий или буржуа, окажется в одной и той же форме и в одной и той же роли: приговоренного к поражению и униженного, — несмотря на это и многое другое, все же в тот июльский день законные притязания самых скромных слоев населения были удовлетворены.
Какой был праздник! От площади Согласия до Бастилии — четыреста тысяч человек, народу немало. На перекрестках друг у друга вырывали кокарды, флажки, и продавщицы кричали, как на рынке: «Покупайте фригийские колпаки!» Это было словно нежданный импровизированный бал.