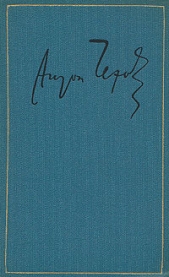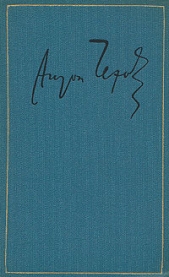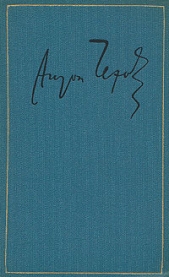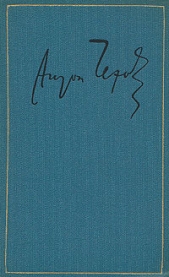Чехов. Жизнь «отдельного человека»
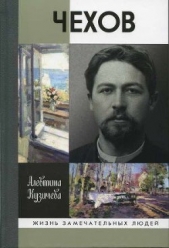
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что за скрытый душевный страх у людей обеспеченных, здоровых, думающих? Почему в этих рассказах самые важные разговоры происходили ночью, когда мир залит лунным светом? Хотя замыслы некоторых из них, судя по записным книжкам Чехова, томили его во время первого заграничного путешествия, в солнечной Италии. Может быть, потому, что послесахалинские рассказы и повести писал человек, сказавший после поездки: «Я видел всё; стало быть, вопрос не в том, чтоя видел, а каквидел»?
Но поймут ли его? Чехова упрекали после «Степи», «Огней» и «Скучной истории» за неясность финала, за то, что непонятно, как же автор относится к своим героям и к жизни вообще. После Сахалина эта неясность, а на самом деле надежда, что читатель сам даст ответ, усилилась.
Сюжетом становилось настроение, захватывавшее читателя. Финалы — еще более рассчитанными на думающего человека: «Да, никто не знает настоящей правды» («Дуэль»); — «Что будет дальше, не знаю» («Жена»); — «Вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить» («Соседи»); — «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают» («Страх»); — «Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно» («Палата № 6»).
Как раз в дни после завершения повести, когда ее набирали в типографии, Чехов написал Лейкину: «Вы пишете, что беллетристы нынче вялы. Да, вялы. Но кто теперь гибок? Главная причина — куража нет. Работать без страсти, для бесстрастных читателей <…> поневоле будешь вялым». Но его собственная проза обретала внутреннюю страстность, которая могла оттолкнуть или оставить равнодушным бесстрастного читателя. Чехов рисковал. Он уже потерял тех, кто по-прежнему читал «Осколки», «Будильник», но без Чехонте и «Новое время» без Ан. Чехова.
Герои первых послесахалинских повестей и рассказов, как сказано автором о некоторых из них, «отшатывались» от себя, ужасались себе. Но не отшатнутся ли читатели от такого героя? Примут ли они новые отношения между собой и героем, собой и автором, героем и повествователем, которые предлагал Чехов? Да, работа над таким повествованием грозила сочинителю нервным срывом, но и читателю было не легко.
Чаще, чем прежде, повторялось в повестях и рассказах слово «думать». Однако почувствовал бы читатель, привыкший ограничиваться сюжетом, то, что Чехов назвал «неуловимой сознанием душевной работой»? Не заскучал бы на первой странице и не отложил бы книжку журнала? Наверно, такого читателя имел в виду Чехов, говоря, что повесть получилась «очень скучной».
На критиков он по-прежнему не рассчитывал. Один из современников проницательно заметил в 1891 году: «Г-н Чехов — оригинальное дарование. <…> но уловить эту новинку может только критик такой же силы, как и разбираемый им художник. Таких критиков у нас нет, или они не хотят писать о г-не Чехове, потому что об этом писателе я не читал ни одной статьи, которая удовлетворительно разъяснила бы сущность его литературной физиономии». Решившись на попытку объяснить Чехова, этот литератор услышал в его рассказах и повестях роковую, опасную, нездоровую «нотку» мистицизма. В статье 1892 года он же, В. Л. Кигн-Дедлов, уже говорил о пессимизме, этом «небезопасном симптоме». Однако надеялся, что «сила здорового таланта возьмет свое», и он явит «крупное произведение общественного характера», в котором «развернет свою способность не только живописать внешнюю жизнь, но и понимать ее внутренний смысл».
Чехов прочел отзыв и отказал доброжелательному автору статьи в надеждах на общественный роман «от Чехова». В тот же день, 26 апреля 1892 года, когда он писал Лейкину о «бесстрастных читателях», он упомянул этот отклик в письме В. А. Тихонову: «<…> статья Дедлова (ведь это его статья?) приписывает мне достоинства, которых я никогда не имел и иметь не буду».
Чехов, как он впоследствии говорил в таких случаях, «фанатически гнул свою линию». Наверно, не только потому, что слушал того, кто «вещал» его устами («Бог или кто-нибудь другой похуже»). Но и потому, может быть, что попал в «заколдованный круг» и хотел из него вырваться. Впервые это словосочетание промелькнуло в письме Суворину в октябре 1889 года. Объясняясь по поводу «Скучной истории», он просил не искать в мыслях, суждениях и мнениях старого больного профессора его, Чехова, мыслей: «<…> мне только хотелось воспользоваться своими знаниями и изобразить тот заколдованный круг, попав в который добрый и умный человек, при всем своем желании принимать от Бога жизнь такою, какая она есть, и мыслить о всех по-христиански, волей-неволей ропщет, брюзжит, как раб, и бранит людей даже в те минуты, когда принуждает себя отзываться о них хорошо». В этот круг недобрых мыслей и чувств, рабского ропота против жизни заключила профессора неизлечимая болезнь. Он в плену неотступной мысли, что жить ему осталось полгода.
Доктор Рагин из повести «Палата № 6» почувствовал свою погибель, когда понял, что его объявили сумасшедшим, отправили в отставку, обрекли на нищету. Былая философия не спасла. Он «предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть», обидам, неприязни к людям: «надушу его пластами ложилась накипь». Он, который всегда говорил тихо, «тонким, мягким тенорком», однажды, когда накипь и подошла к горлу, вдруг закричал «не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. — Вон! Оба вон, оба!». Ему потом было и стыдно, и досадно на себя: «Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?» Неизлечимая болезнь одного, оскорбительная, возрастающая нищета другого и сотворенная по отношению к нему несправедливость словно поработили мысли и чувства героев этих двух повестей.
Весной 1892 года Чехов возобновил работу над повестью «Рассказ неизвестного человека», которую начал несколько лет назад, потом отложил. Герой ее, который тоже серьезно болен, у него чахотка, заметил в себе кое-что, что показалось ему «поважнее чахотки» — «страстную, раздражающую жажду обыкновенной, обывательской жизни». Ему, как он думал, может быть, под влиянием болезни, «хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости». И здесь — заколдованный круг?
По-видимому, не отвлеченная философская проблема, не сложная психологическая тема, а нечто иное могло быть причиной такого сосредоточенного внимания Чехова к душевному состоянию обреченного человека. И это обнаруживали его письма последних лет, с каждым годом всё чаще и отчетливее.
Бесконечные шутки насчет аукциона были небезобидными и таили не только намек на судьбу родительского дома в Таганроге. Едва переехав в Мелихово, Чехов написал Киселеву: «К тому же <…> пока я жив и зарабатываю 4–5 тысяч в год, долги будут казаться игрушкой <…> а вдруг я уйду от вас грешных в иной мир, т. е. поколею? Тогда герцогство с долгами явится для моих маститых родителей и Ма-Па такою обузою, что они завопиют к небу».
Грубоватое «поколею» не скрывало серьезности положения. Тем более что по просьбам к брату Ивану о лекарствах можно предположить, что напряженнейшая работа над повестью вызвала кровохарканье. Хотя уже миновало весеннее вскрытие рек, обыкновенно совпадавшее с обострением легочного процесса, но болезнь обострялась от неустойчивой погоды, холодных ветров.
Была ли мысль о чахотке, о смерти или о семейном плене «заколдованным кругом» Чехова? И если так, как он размыкал его? Не роптал, не брюзжал? Принимал ли жизнь такою, какая она есть, и мыслил обо всех по-христиански, о чем писал три года назад, размышляя о герое «Скучной истории»?
16 июня 1892 года Чехов рассказывал о себе в письме Суворину. В этом признании есть немаловажное уточнение: «Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому ненужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным, я не уважаю того, что я пишу, я вял и скучен самому себе, и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрасти новой шерстью».