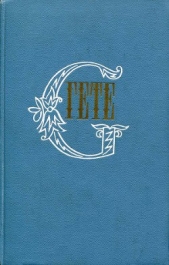Разговоры с Гете в последние годы его жизни
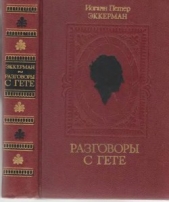
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Прежде всего он воскликнул: «Хорошо, что ты тогда послушался моего разумного совета, не отдал печатать свои стихотворения и выждал, покуда тебе удастся написать что-нибудь действительно хорошее. Правда, они уже и в ту пору были недурны, иначе разве я взялся бы их переписывать? Но если бы нам не пришлось расстаться, ты бы и другие не стал печатать, я бы их тоже переписал и все было бы отлично». Как видите, он ничуть не изменился. При дворе его любили, и я всегда встречался с ним за княжеским столом.
В последний раз мы виделись в тысяча восемьсот первом году, он был уже стар, но по-прежнему пребывал в наилучшем расположении духа. Во дворце ему отвели несколько прекрасных комнат, одна из них была вся уставлена геранями, к которым у нас тогда очень пристрастились. Но как раз в это время ботаники ввели новые подразделения в группе гераней и некоторую их часть назвали пеларгониями. Старик очень гневался на них за это. «Дурачье, — твердил он, — я радуюсь, что комната у меня полна гераней, как вдруг они являются с утверждением, что это не герани, а пеларгонии. А на кой мне эти цветы, если они не герани, ну что мне, спрашивается, делать с пеларгониями?» И так в продолжение добрых получаса, из чего можно заключить, что он ничуть не изменился.
Разговор перешел на «Классическую Вальпургиеву ночь», начало которой Гёте читал мне несколько дней тому назад.
— Целая толпа мифологических образов, — сказал он, — напирает на меня, но я осторожен и отбираю лишь те, что своей наглядностью могут произвести должное впечатление. Сейчас у меня Фауст встречается с Хироном, и я надеюсь, что эта сцена мне удастся. Если я буду прилежно работать, то через месяц-другой, пожалуй, управлюсь с ней. Лишь бы что-нибудь снова не оторвало меня от «Фауста»; честное слово, ум за разум заходит при мысли, что я успею его кончить! А ведь это не исключено — пятый акт, можно сказать, готов, а четвертый напишется сам собой.
Гёте заговорил о своем физическом состоянии, радуясь, что уже долгое время чувствует себя вполне здоровым.
— И столь хорошим самочувствием я обязан Фогелю, — сказал он, — без него меня бы уж давно на свете не было. Фогель — прирожденный врач, да и вообще один из одареннейших людей, когда-либо мне встречавшихся. Но лучше мы об этом помолчим, а то как бы у нас его не отняли.
Обед у Гёте. Говорили о Мильтоне.
— Я недавно читал его «Симеона», — заметил Гёте, — он соответствует духу древних больше, чем какое-либо произведение новейших поэтов. Мильтон подлинно велик, а в этом случае собственная слепота еще помогла ему так полно и правдиво изобразить состояние Симеона. Мильтон настоящий поэт, и его надо уважать.
Слуга принес газеты и в «Берлинских театральных новостях» мы прочли, что там на сцене выведены морские чудовища и акулы.
Гёте прочитал во французском «Тан» статью о чрезвычайно высокой оплате английского духовенства, превышающей расходы по денежному содержанию всех лиц духовного звания в прочих христианских странах.
— Говорят, что цифры правят миром, — сказал Гёте, — я знаю одно — цифры доказывают, хорошо или плохо он управляется.
Обед у Гёте. Разговор зашел о Моцарте.
— Я видел его семилетним мальчуганом, — сказал Гёте, — когда он проездом давал концерт во Франкфурте. Мне и самому только что стукнуло четырнадцать, но я как сейчас помню этого маленького человечка с напудренными волосами и при шпаге.
Я был поражен, мне едва ли не чудом показалось, что Гёте уже в таких летах, что мог видеть Моцарта ребенком.
Обед у Гёте. Разговоры о князе-примасе. За столом у императрицы Австрийской Гёте, прибегнув к удачному обороту речи, отважился выступить на его защиту. Слабые познания князя в философии, дилетантская страсть к живописи, отсутствие вкуса. Картина, подаренная мисс Гор. Его добросердечие и неуменье постоять за себя — роздал все, что имел, и под конец впал в бедность.
Разговор о понятии неучтивости. После обеда явился молодой Гёте в маскарадном костюме волшебника Клингзора. Он едет ко двору вместе с Вальтером и Вольфом.
Обедал с Гёте. Он очень искренне хвалил оду Римера, посвященную празднованию 2 февраля. [73]
— Все, что делает Ример, — заметил он, — одобрит и мастер, и подмастерье.
Засим мы опять говорили о «Классической Вальпургиевой ночи» и о том, что за работой всплывает многое, для него самого неожиданное. К тому же и тема непомерно ширится.
— Сейчас у меня сделано чуть больше половины, — сказал он, — но я буду работать неотступно, и к пасхе надеюсь ее закончить. До тех пор я ничего вам больше не покажу, но как только все будет готово, вы возьмете рукопись домой, чтобы спокойно ее просмотреть. Ежели вы успеете закончить составление последних тридцать восьмого и тридцать девятого томов так, чтобы к пасхе можно было отослать их издателю, это было бы превосходно, у нас бы освободилось лето для другой большой работы. Я останусь верен «Фаусту» и буду стараться завершить также и четвертый акт.
Меня обрадовало это его намерение, и я обещал, со своей стороны, сделать все возможное для облегчения его труда.
Гёте послал слугу справиться о здоровье герцогини-матери, заболевшей настолько тяжело, что он опасался за ее жизнь.
— Ей не следовало бы присутствовать на маскарадном шествии, — сказал он, — но августейшие особы привыкли потакать своим прихотям, и все протесты врачей и придворных ни к чему не привели. Ту силу воли, с которой она в свое время противилась Наполеону, она обратила теперь на сопротивление своей физической немощи, но я уже знаю, чем это кончится: она уйдет из этого мира, как ушел великий герцог, — в полном обладанье душевных и умственных сил, когда тело ее уже перестанет ей повиноваться.
Гёте, видимо, был огорчен и подавлен: некоторое время он молчал. Но вскоре мы вернулись к оживленной беседе, и он рассказал мне о книге, написанной Гудзоном Лоу в свое оправданье.
— В ней имеются бесценные черточки, — начал он, — которые могли быть подмечены только очевидцем. Как известно, Наполеон обычно носил темно-зеленый мундир, который от долгой носки и солнца пришел в полную негодность; возникла настоятельная необходимость заменить его новым, он настаивал на мундире точно такого же цвета, однако на острове подходящего не нашлось, было, правда, зеленое сукно, но желтоватого оттенка. Надеть на себя мундир такого цвета властелину мира не подобало, ему только и осталось, что велеть перелицевать свой старый и по-прежнему носить его.
Ну, что вы скажете? Это же поистине трагическая черточка! Просто за душу берет, когда подумаешь: царь царей унижен до того, что ему приходится носить перелицованный мундир. Но если вспомнить, что этот человек растоптал счастье и жизнь миллионов людей, то видишь, что судьба отнеслась к нему еще достаточно милостиво и Немезида, приняв во вниманье величие героя, решила обойтись с ним не без известной галантности. Наполеон явил нам пример, сколь опасно подняться в сферу абсолютного и все принести в жертву осуществлению своей идеи.
Мы еще поговорили немного на эту тему, и я поспешил в театр смотреть «Звезду Севильи».
Сегодня, когда я шел обедать к Гёте, меня настигла весть о смерти великой герцогини-матери. Как перенесет ее Гёте в его преклонных годах? — вот была моя первая мысль, и я не без боязни переступил порог его дома. Кто-то из прислуги сказал мне, что невеста сейчас пошла к нему — сообщить о печальном событии. «Более пятидесяти лет, — думал я, — он был другом герцогини и пользовался особым ее благоволением, ее кончина, конечно же, будет для него величайшим потрясением». С этой думой я вошел к нему. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что он, бодрый, и жизнерадостный, как будто ничего не случилось, сидит за столом с невесткой и внуками и ест свой суп. Я присоединился к их непринужденному разговору о том, о сем, но тут во всех церквах города ударили в колокола, госпожа фон Гёте быстро на меня взглянула, и мы заговорили громче, дабы похоронный звон не проник в его душу, — ведь мы-то полагали, что он чувствует так же, как мы. Но нет, так он не чувствовал, совсем иным был строй его внутреннего мира. Он сидел среди нас, подобный высшему существу, недоступному земным страданиям. Слуга доложил о надворном советнике Фогеле. Фогель подсел к нам и стал рассказывать об отдельных обстоятельствах, сопутствовавших кончине государыни. Гёте все это выслушал с тем же спокойствием и присутствием духа. Фогель откланялся, а мы продолжали свой обед и застольную беседу. Среди прочего много говорили о «Хаосе», и Гёте с большой похвалой отозвался о «Размышлениях об игре» в последнем номере. Когда госпожа фон Гёте с мальчиками ушла наверх, мы остались вдвоем. Он рассказывал мне о «Вальпургиевой ночи», о том, что она у него с каждым днем продвигается вперед и что, сверх ожидания, ему удаются самые диковинные сцены. Затем он показал мне пришедшее сегодня письмо от Баварского короля, каковое я прочитал с большим интересом. Каждая строчка там свидетельствовала не только о благородном образе мыслей, но и о его неизменной преданности Гёте, — последнему это, видимо, было очень приятно. Слуга доложил о надворном советнике Сорэ, который присоединился к нашей беседе. Собственно, он пришел передать Гёте несколько слов утешения и соболезнования от имени ее императорского высочества, которые еще укрепили его в жизнерадостном и бодром настроении. Гёте, продолжая говорить, упоминает о прославленной Нинон де Ланкло, красавице, на шестнадцатом году обреченной смерти. Обступивших ее друзей она утешала словами: стоит ли горевать, ведь и здесь я оставляю только смертных! Впрочем, она выздоровела и дожила до девяноста лет, до восьмидесяти делая безмерно счастливыми или доводя до отчаяния сотни своих любовников.