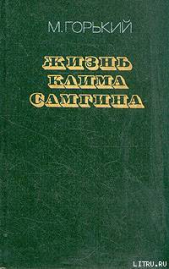Книга о русских людях
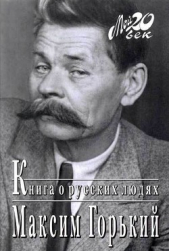
Книга о русских людях читать книгу онлайн
В книгу воспоминаний Максима Горького — Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936), — одного из самых знаменитых писателей XX века, вошли его «Заметки из дневника» (поистине уникальный ряд русских характеров — от интеллигента до философствующего босяка, от революционера до ярого монархиста), знаменитые литературные портреты А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, В. Г. Короленко, С. А. Есенина, С. Т. Морозова, В. И. Ленина (очерк о нем публикуется в первой редакции — без позднейших наслоений «хрестоматийного глянца»), а также прогремевшая в свое время хроника Октябрьской революции «Несвоевременные мысли».
Предисловие, примечания Павла Басинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в ответ на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:
— Я — поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, что возбуждает его.
Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что «кашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:
— Хорошая! Я ее изломаю.
— Зачем же?
— Я люблю ломать, которое мне нравится, — ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он — читатель, которому я нравлюсь.
Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:
— «Мыслю, значит — существую», это неверно! Или — этого мало. Мышление — процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем — где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит — существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание…
Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою «культурность», или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался, — улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.
Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:
— С кем это он?
А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.
— У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.
Было несколько странно слышать такие заявления из уст крупного промышленника, но я помнил, что в России «белые вороны», «изменники интересам своего класса» — явление столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюриковичей — анархист; граф — «из принципа» — пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее ярыми атеистами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:
«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоит».
Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?
— Да, — с грустью и досадой ответил он. — Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.
Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услыхал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, о интрамолекулярной энергии — все это тогда было новинкой не для меня одного.
Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.
— Пушкин — мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой — чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской «души», — дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показались бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.
Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену, — коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».
И неожиданно спросил, прищурясь:
— Видели вы человека, похожего на Маякина?
Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:
— Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я — не видал. Наш промышленник — слепой человек, его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка…
Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:
— Богатый русский — глупее, чем вообще богатый человек…
Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:
— Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.
— Вы так думаете?
— Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.
— Вы считаете революцию неизбежной?
— Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людями.
Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил.
— Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним — ваше дело! — но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги…
Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:
— Лично я — не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он — ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, — его не учили и не учат работать. А талантлив он — изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.
Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики, — а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов рабочих, двое учились за границей.
Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность — это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда — беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще — хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник — всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма — в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.