Воспоминания о русской службе
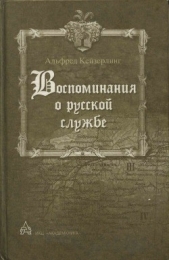
Воспоминания о русской службе читать книгу онлайн
Мемуары графа Кейзерлинга впервые издаются в России. Начав службу чиновником для особых поручений, он инспектировал амурскую каторгу, выкрадывал документы из осажденного Порт-Артура, руководил земством под Петербургом, был обвинен в шпионаже и заключен в Петропавловскую крепость, организовывал поставки продовольствия на фронт в годы I Мировой, сидел в большевистском концлагере… В книге содержатся рассказы о сибирской каторге, путешествии цесаревича по Забайкалью, о поездках в Монголию, Китай, Японию, этнографические сведения о народах Дальнего Востока, воспоминания о работе под началом барона Корфа, о встречах с Николаем II и высшими государственными чиновниками, об установлении Советской власти в Сибири.
Комментарии Е.И. Кононенко и М.Ю. Катин-Ярцева
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через этот вокзал проходило множество военных эшелонов и поездов с беженцами. В час ночи прибыл эшелон с пленными российскими солдатами, которые воевали во Франции. Один из них служил вместе с моим младшим сыном. Я рассказал ему о своей судьбе, и когда эшелон двинулся дальше, солдаты увели нас собой, и вместе с ними мы поехали в Барнаул. Там у нас был знакомый, вышеупомянутый портной, который в свое время нас приютил. Зять мой был извещен о нашем приезде и на следующий день намеревался приехать за женой. Однако ночью его арестовали и отправили в Томск, в лагерь для пленных.
Поэтому в Барнауле, куда мы добрались с таким трудом и опасностями, делать нам, собственно, было нечего, более того, мы находились под угрозой ареста. Австрийские офицеры, которых я хорошо знал, уступили моей дочери две комнаты, но мне пришлось искать другое пристанище, и я нашел его за пределами города, в лагере военнопленных, где и прожил с мая до осени. В соответствии с новой обстановкой лагерь этот был превращен в так называемую «коммуну» и походил на настоящий городок, в котором были представлены все кустарные промыслы. Просто удивительно, чего только здесь не производили, притом вручную! Так пленные коротали время, обменивали свои изделия на провиант и одежду. Большевики снова и снова подступали к ним, принуждая вступать в Красную армию. Многие переходили к ним, исключение составляли только немцы. Нередко пленным приказывали выезжать в деревню — молотить конфискованное у крестьян зерно. Делали они это поневоле, а когда однажды огромные кучи зерна начисто сгорели и большевикам не достались, пленных к этой работе принуждать перестали.
Я нашел работу в табачном производстве, созданном немецкими и австрийскими офицерами под руководством одного из австрийцев. Когда его эвакуировали, руководителем выбрали меня, и австриец оставил мне все свои рецепты производства табака.
Иногда в потемках я пробирался к дочери в Барнаул, так как днем появляться там не мог. Однажды вечером, когда я был у нее, в дверь постучали, сначала тихо, потом все громче. Странно, ведь наши соседи, офицеры, стучали по-особенному, если поздно возвращались домой и моя дочь им открывала. Наверное, предательство, визит ЧК; но делать нечего — я открыл.
«Ну, наконец-то я вас разыскал! — воскликнул вошедший. — Вы узнаете меня?» В полумраке он показался мне совершенно незнакомым, и я отрицательно покачал головой. Тогда он назвался: «Я — К., а вот и ваш цветочный горшок! Представляю, что вы обо мне думали! Но я не мог прийти раньше. Мы с женой все это время места себе не находили из-за вашего горшка, боялись, что его у нас отберут… Слава Богу, я вас все-таки разыскал. Портной Добровольский не хотел мне говорить, где вы, и только когда я назвался и объяснил, что должен вернуть вам цветочный горшок, но не знаю вашего имени, он открыл мне, где укрывается ваша дочь». К. радовался, что может отдать наше сокровище, ничуть не меньше, чем радовались мы сами. Все оказалось в целости и сохранности. После долгих уговоров он принял в подарок для жены маленькие золотые часики и цепочку, которые всегда носила моя покойная жена. Предложение выбрать то, что ему больше нравится, К. категорически отверг и сказал, что в его поступке нет абсолютно ничего особенного. А ведь он был беден и говорил мне, что они с женой никогда не видели таких красивых и дорогих вещиц, как эти драгоценности; оба прямо-таки перепугались, найдя в цветочном горшке эти сокровища. Наудачу, не зная моего имени, этот человек тайком проскакал непроходимыми путями более 300 верст с Алтайских гор, рискуя быть схваченным и подвергнуться суровейшему наказанию. Он действовал по совести, полагая это делом чести и поступком совершенно естественным. Вот какова исконная порядочность настоящего сибиряка.
В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ТЮРЬМЕ В ТЮМЕНИ
В один прекрасный день приехала свекровь Ирены, чтобы забрать ее с ребенком к себе на Урал. Муж ее дочери, тоже бывший офицер, был там полицмейстером в маленькой деревушке, у него-то они и рассчитывали устроиться. Правда, жена его жила в Новгороде и захворала, поэтому свекрови пришлось опять покинуть Ирену, чтобы ухаживать за больной дочерью. Немногим позже большевики арестовали полицмейстера, и моя дочь осталась на Урале совсем одна, с грудным младенцем на руках. Она работала у одного из крестьян и за это получила место у него на печи.
Узнав, что она там одна, без всякой защиты, я решил во что бы то ни стало помочь ей. С отпускным билетом иностранной трудовой коммуны, в которой работал, я двинулся в путь и пароходом добрался до приуральской Тюмени. Там мне нужно было достать новый проездной литер, чтобы проехать на Урал. На беду, у места выдачи таких литеров я столкнулся со знакомым по Барнаулу венгром по фамилии Фишер. Его стараниями я вновь очутился в ЧК. При аресте приезжих было принято наводить о них справки по месту жительства. Отзыв, поступивший из Барнаула, где по-прежнему хозяйничали латыши, оказался крайне неблагоприятным. Они писали, что я-де их обокрал и по моей вине их в свое время выставили из города, и требовали, чтобы меня этапировали к ним в Барнаул, где я буду казнен. Пока, однако, я оставался в большевистской тюрьме в Тюмени.
Всех нас, более восьмидесяти человек, держали в одном помещении, где прежде располагалась пивная-монополька. Теперь там по стенам стояли нары, еще был стол и открытый котел с водой. Вторая дверь вела в нужник, представлявший собой обыкновенную выгребную яму, а третья — в караульное помещение, где сидели охранники-чекисты. По размерам «камера» годилась максимум для двадцати пяти человек, к тому же потолок был низкий — рукой достанешь. Ни печки, ни вентиляции. Зарешеченные окошки зимой не открывались. Стены и потолок сочились сыростью, которую создавал пар из водяного котла. Свежий воздух попадал к нам только из караулки, через оконце, служившее, собственно, для наблюдения за арестантами. Из-за жуткой вони, царившей у нас, охрана большей частью держала оконце закрытым. Еды вообще не давали, только кипяток из котла да осьмушку хлеба в день на человека. Народ в «камере» менялся очень быстро. Еженедельно человек восемь отправлялись на расстрел, умирали от болезней или от слабости, и вместо них приводили столько же новых. Новички обыкновенно приносили немного картошки, вяленого мяса, хлеба и табака. Этими припасами мы кое-как и жили. Кроме того, дважды в неделю сердобольным людям разрешалось приносить нам передачи. Только благодаря этим передачам те из нас, кто повыносливее, смогли выжить; те же, кто послабее, все равно погибали. Компания была очень пестрая — и бывшие высокие государственные чиновники, и офицеры, и священники, и богатые коммерсанты, и проштрафившиеся бывшие комиссары, и почтенные сибирские крестьяне, и татары, и русские, и закоренелые преступники.
Однажды к нам в камеру втолкнули старого, но еще крепкого мужика, который тащил большой мешок с добром. Он огляделся, сплюнул и сказал: «Я слыхал, большевики перед расстрелом запирают людей в свинарники, но такого свинарника, как этот, я в жизни не видал. — После этого он представился: — Я Сокол, старый бродяга, по прозвищу Разбойник, сиживал в Каре, о которой и вы, поди, слыхали. Шутки со мной шутить не советую, хоть вы, сказывают, на это горазды. Я, конечно, стар, но на кулак, слава Богу, пока не жалуюсь, потому и не советую с ним знакомиться. Комиссар из деревни X. на Шилке может подтвердить, я ему зубы-то пересчитал. Вот меня сюда и пригласили. Надеюсь, что и тому, кто будет меня расстреливать, тоже успею зубы поправить». Засим он подошел к нарам, уже занятым тремя арестантами, и потребовал очистить место: не по чину ему помещаться возле нужника, где обычно водворяются новички. Речь Сокола произвела впечатление. Мы привыкли, что несчастные новички появляются в камере перепуганные и как бы оглушенные. Люди на нарах подвинулись, и он тотчас по-хозяйски расположился подле них со своим мешком и дохой.
Я был в камере уже ветераном, да и по возрасту самым старшим, занимал лучшее место на нарах у окна и пользовался уважением сокамерников, которые всегда называли меня «ваше сиятельство», как и положено при моем графском титуле. Заметив меня, Сокол спросил у других, откуда тут взялся старый граф. Ему сообщили, что никто не знает, отношусь я ко всем дружелюбно, но о себе никогда не рассказываю. Если ему охота разузнать обо мне, пусть сам и спрашивает. Услышав издали этот разговор, я кивнул Соколу и сказал: «Когда-то тридцать лет назад я служил в Каре начальником, ты тогда был еще совсем молод, я познакомился там со многими твоими собратьями, но вот тебя не припомню». Он подхватил мешок и доху и нашел место поближе ко мне.

























