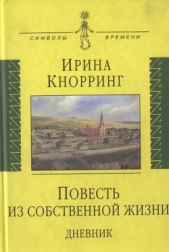Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 2

Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 2 читать книгу онлайн
Дневник поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг (1906-1943), названный ею «Повесть из собственной жизни», публикуется впервые. Второй том Дневника охватывает период с 1926 по 1940 год и отражает события, происходившие с русскими эмигрантами во Франции. Читатель знакомится с буднями русских поэтов и писателей, добывающих средства к существованию в качестве мойщиков окон или упаковщиков парфюмерии; с бытом усадьбы Подгорного, где пустил свои корни Союз возвращения на Родину (и где отдыхает летом не ведающая об этом поэтесса с сыном); с работой Тургеневской библиотеки в Париже, детских лагерей Земгора, учреждений Красного Креста и других организаций, оказывающих помощь эмигрантам. Многие неизвестные факты общественной и культурной жизни наших соотечественников во Франции открываются читателям Дневника. Книга снабжена комментариями и аннотированным указателем имен, включающим около 1400 персоналий, - как выдающихся людей, так и вовсе безызвестных
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти дни я лежала. Мне было очень плохо, я накаливалась и накаливалась… А сейчас опять наступила реакция, опять все стало «все равно», и уже нет сил ни возмущаться, ни плакать.
Я как-то писала, что мы с Борисом квиты. Нет, не квиты. Я доставила ему много неприятностей, но я не сделала ни одной подлости. Я его не предавала. У меня даже нет к нему зла (еще вчера — было). Есть много презрения, я этого человека не могу уважать, и много горькой обиды. Именно — обиды. За что?
Зачем я рассказала об этом Наташе и Лиле? Должно быть, по необъяснимой необходимости говорить о том, «что болит». Потому-то мне и хотелось так эти дни заговорить об этом с Юрием. Кто же, как не он, мог бы меня, наконец, успокоить! Но с ним об этом сама никогда не решусь заговорить. Какое это страшное слово — никогда. А я стала совершенно больной истеричкой. Со мной ни о чем говорить нельзя — я сразу же начинаю кричать и плакать. Тут все: и холод, и голод, и ацетоны, и хозяйка, и газовщики, и электричество, и Борис…
Сегодня Игорь принес из школы свои notes [406]. В этом месяце он 6-й ученик из 33-х. Не плохо. А в субботу принес temoignage de satisfaction [407], очень доволен, мордочка сияет. А сейчас я сижу и ругаюсь с ним: лежит и требует, чтобы я сидела в столовой или, по крайней мере, там горел свет. Я принципиально сижу в кабинете. Так как он чувствует за собой поддержку бабушки, то позволяет себе закатывать настоящие истерики. Я — тоже. Ничего себе получается. После долгих препирательств пришлось дать ему валерьянки, а сама сижу и реву. Нервы у меня совсем расшатались.
5 декабря 1936.Суббота
Когда мы завесили красным лампу и потушили белый свет, я сказала:
— У меня есть только одно определенное желание: умереть. Я дошла до такой точки, когда уже ничего не хочется и почти ничего не жаль.
Юрий спросил:
— А Игоря тоже не жаль?
— Нет.
— Все это неврастения.
А я все больше и больше чувствую, что я отстала от Юрия, как я вообще отстала от жизни. Пришел он как-то из собрания «Круга» [408], такой оживленный, возбужденный, сгоряча начал что-то рассказывать, и оба мы почувствовали, что живем мы совсем в разных мирах, почти в разных столетиях.
Лег, обнял, прижался. И подумалось: «Вот — его жена. После интересных дебатов хорошо вот так прийти и лечь. Говорить не надо. Тепло, хорошо… И ведь в этом вся моя роль. Разве не лучше будет, если я умру?»
Союз выпускает его книжку [409]. Будет очень благожелательная, если не восторженная, статья Адамовича. Ругать некому. Полный триумф. И окончательное мое поражение.
На той неделе будет вечер стихов [410]. Глупо, что поместили меня: ясно ведь каждому, что не пойду.
11 декабря 1936. Пятница
***
Полнее и точнее выразить не могу
Ночь с 24 на 25 декабря 1936. Четверг-пятница
Е.Таубер
Именно холодно. Должно быть, потому я и не люблю праздников. Очень холодно и очень одиноко. Юрий спит, озяб сегодня на работе, и, конечно, все уже заболело. М<ожет> б<ыть>, конечно, и вправду заболело, и ром, и аспирин, и клизма — все это вызывает некоторое раздражение. В Notre-Dame, конечно, не пошли [411]. Да и если бы он здоров был, все равно бы не пошли: к этому предложению он отнесся более чем холодно и ни разу потом не говорил об этом, а я тем более. Разве я могу о чем-нибудь просить его, когда вижу, что он не хочет?
Наши тоже спят. А наверху, у Примаков, что-то весело… Я не люблю праздников. Но я с большим азартом готовилась к елке, клеила картонки, ходила с Игорем покупать елку, с большой радостью украшала ее. Меня трогает и волнует Игорешкино оживление, он прямо горит весь. Какая-то неизвестная дама принесла и оставила у консьержа для Игоря маленькую елочку. Я долго не знала, что с ней делать, а сегодня, когда он уснул, убрала ее остатками игрушек, наивным образом, цепями (от ликвидации Тургеневской елки) и серебряными нитями; и поставила в спальне на его стол. А вокруг наложила подарки. То-то будет восторг, когда проснется!
Сижу в кабинете, пью ром, и спать мне не хочется.
В этом месяце Игорь был 2-м учеником и получил tableau d’honneur [412]. Я горда и счастлива не меньше его!
31 декабря 1936. Четверг
Опять о старом: