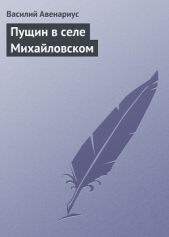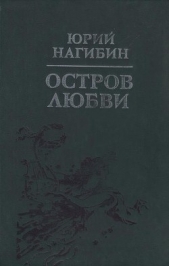Записки о Пушкине. Письма

Записки о Пушкине. Письма читать книгу онлайн
Талантливых натур среди декабристов было много, и Пущин по праву заслужил эту характеристику. Он был и талантливой натурой, и замечательным общественным деятелем, и стойким убежденным участником революционного движения 20-х годов XIX столетия.
Первый друг А. С. Пушкина, он оставил в нашей мемуарной литературе такое ценное наследство, как Записки – обстоятельный и достоверный документ для характеристики Пушкина-лицеиста.
В настоящем издании, кроме Записок, помещено 256 писем И. И. Пущина. До последнего времени их выявлено около семисот. Больше двух третей из общего числа печатаемых писем относится к тридцатилетнему пребыванию Пущина в тюрьмах и на поселении. В них имеется разнообразный материал для знакомства с историческими и бытовыми условиями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прощаясь, Пущин протянул мне руку, я обнял его, и крепко поцеловались мы; так же простился я и с другими. Грустно мне было. Каково им жить одним так далеко от своих! Все они вышли провожать меня на двор, помогали садиться мне. Сами застегнули кибитку, и крепко пожали мы друг Другу руки.
Странно! люди они мне чужие, провел я с ними день и так сблизился, как будто давно уже были мы знакомы. А полюбил я их…
И. Д. Якушкину [605]
Ялуторовск, среда, 28 февраля 1851 г,
…Здесь я проведу часов 6 времени, у Ивана Ивановича [Пущина] остановился; пообедаю, да и в путь. Ялуторовск для меня – станция душевная с тех пор, как я вас всех короче узнал…
Е. И. Якушкин
1853 г. [606] я познакомился с Иваном Ивановичем Пущиным, жившим в то время в г. Ялуторовске. Имя Пущина было давно мне известно из стихотворений Пушкина. Некоторые рассказы лиц, знавших его до его ссылки, вызывали во мне глубокое к нему сочувствии: личное знакомство с этим «первым другом» великого поэта еще более усилило то чувство уважения, которое я имел к нему ранее. Он произвел на меня сильное впечатление. Когда я с ним познакомился, ему было 55 лет, но он сохранил и твердость своих молодых убеждений и такую теплоту чувств, какая встречается редко в пожилом человеке. Его демократические понятия вошли в его плоть и кровь: в какое бы положение его ни ставили обстоятельства, с какими бы людьми ни сталкивала его судьба, он был всегда верен самому себе, всегда был одинаков со всеми. Люди самых противоположных с ним убеждения относились к нему с глубоким уважением.
Сблизиться с таким человеком мне было тем более легко, что он был очень дружен с моим отцом. С первого же дня знакомства между мною и им установилась тесная связь, не прерывавшаяся до самой его смерти. Во время пребывания моего в Ялуторовске я виделся с ним каждый день. Большой интерес для меня представляли его рассказы, особенно о его лицейской жизни и об отношениях его к А. С. Пушкину. Часть всех рассказов я записал тогда же, но эта краткая запись казалась мне очень бледной в сравнении с живою речью Пущина, поэтому я не один раз просил его написать его воспоминания о Пушкине.
Пущин, несмотря на то, что ему теперь [607] 57–58 лет, до такой степени живой и веселый человек, как будто он только что вышел из Лицея. Он любит посмеяться, любит заметить и подтрунить над чужой слабостью и имеет привычку мигнуть, да такую привычку, что один раз когда ему не на кого было мигнуть, то он долго осматривался и, наконец, мигнул на висевший на стене образ. В то же время это человек до высочайшей степени гуманный (я, право, не знаю, как выразиться иначе) – он готов для всякого сделать все, что может, он одинаково обращается со всеми: и с губернатором, когда тот бывает в Ялуторовске, и с мужиком, который у него служит, и с чиновниками, которые иногда посещают его. Никогда он не возвысит голоса более с одним, чем с другим.
Он переписывается со всеми частями Сибири, и когда надо что-нибудь узнать или сделать, то обращаются обыкновенно к нему. Он столько оказывал услуг лицам разного рода, что в Сибири, я думаю, нет человека, который бы ке знал Ивана Ивановича хоть по имени.
Он один из немногих, отзывающихся с полным уважением о деле, за которое они живут в Сибири, и не делающих в этом отношении ни малейшей уступки; я даже не удивился бы, ежели бы он, возвратясь в Россию, завел, как он называет, маленькое общество…
С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно; я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым.
– Послушайте, что же я буду писать, – перебил он меня, – кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?
– Как кого? Я думаю, всех; вы Пушкина знали в Лицее, знали его после, до 26 года, – он был с вами дружен, и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать и которое вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать.
–. Да, ежели бы я мог написать что-нибудь интересное, я бы написал, но, во-первых, я не умею писать, хоть Пушкин и уверял всегда, что у меня большой литературный талант, да я, слава богу, ему не поверил и хорошо сделал, потому что точно не умею писать, а во-вторых, я могу сообщить только такие мелкие подробности, которые никого не могут интересовать, а писать для того, чтобы все знали, что я был знаком с Пушкиным, согласитесь сами, было бы очень смешно.
– Так вы просто скажите: я не хочу писать, потому что я самолюбив; ко согласитесь сами, что, как бы ни были мелки подробности, которые вы можете рассказать, они все-таки будут интересны уже потому, что будут рассказаны о Пушкине; да иногда случай вовсе незначительный обрисовывает совершенно характер человека, и вы хоть побожитесь, так я вам не поверю, чтобы вы не могли рассказать ни одного подобного случая.
– Ну, а есть и такие вещи, которых я, как товарищ, не хотел бы рассказывать про Пушкина. Например, я помню: мы были раз вместе в театре. Пушкин сидел в первом ряду и во время антрактов вертелся около Волконского [П. М.] и Киселева, как собачонка какая-нибудь, и это для того, чтобы сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания; мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю: «Что ты делаешь, Пушкин? можно ли себя так срамить – ведь над тобой все смеются!»
Он совершенно растерялся, а в следующий антракт опять то же. Это рассказывать, разумеется, мне, не весело, а сношения мои с ним – для кого любопытны?
Ну что ж, я мог бы описать мою поездку к нему в деревню в 1825 г. Как я заехал в Опочку поздно вечером – целый час стучался в каком-то погребке, чтобы купить несколько бутылок шампанского, – нельзя же было приехать к Пушкину без вина. Ну, разумеется, он мне был ужасно рад; только на другой день утром мы сидим с ним, разговариваем, вдруг Пушкин вскакивает, бросается к столу и развертывает книгу. Я смотрю – что за книга? Библия. «Что с тобой, Пушкин?» – «Архимандрит едет». – Он был сослан в деревню и отдан под присмотр архимандриту. Архимандрит узнал, что к Пушкину кто-то приехал, и, по обязанности своей, явился узнать, кто такой. Ну, что же это для вас любопытно?
– Разумеется, любопытно.
– Для вас-то, может быть, потому что вы меня знаете.
– Да и для всех любопытно.
– Ну хорошо, я для вас напишу все, что припомню.
– Даете слово?
– Даю и приготовлю к вашему возвращению…
Итак, одно дело было сделано.
Вечер я просидел с Пущиным – разумеется, разговор большей частью шел о войне.
– Успеха нечего ждать, – сказал Ив[ан] Иванович], – но и неуспех будет нам полезнее самого блестящего успеха, ежели он откроет нам, наконец, глаза…
Вечером, напившись чаю, я простился со всеми у Ивана Ивановича и отправился в Тобольск…